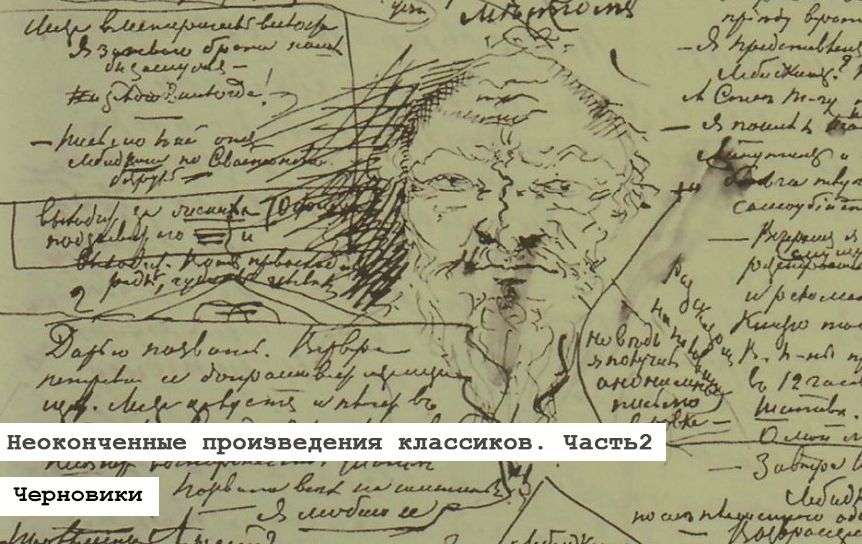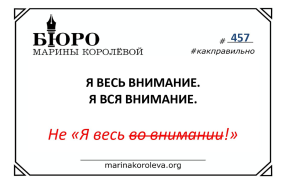Текст: Ольга Лапенкова
А. П. Чехов. Роман о русских людях; пьеса о царе Соломоне
Несмотря на то что Чехов писал в основном лаконичные произведения и говорил, что краткость – сестра таланта, даже у него не всегда хватало, выражаясь современным языком, ресурса, чтобы воплотить ту или иную задумку. Ещё в двадцатилетнем возрасте прославившись как автор фельетонов, то есть коротких юмористических рассказов, Антон Павлович методично осваивал всё более и более «серьёзные» формы, но ни одного романа так и не написал.
В 1888-89 гг., когда Чехову было почти тридцать, он всерьёз увлёкся идеей крупного произведения. Классик предполагал сделать нечто композиционно похожее на «Мёртвые души» Н. В. Гоголя: изобразить человека, разъезжающего по России и, фигурально выражаясь, подсматривающего в окошки чужих домов.
Начинаться роман должен был с печального события. Ныне почти забытый, писатель А. С. Лазарев-Грузинский вспоминал, что Чехов задумывал первую сцену такой: «Представьте тихую железнодорожную станцию в степи. Недалеко от станции имение вдовы-генеральши. Ясный вечер. К платформе подходит поезд с двумя паровозами. Затем, постояв на станции минут пять, поезд уходит дальше с одним паровозом, а другой паровоз трогается и тихонько подталкивает к платформе один товарный вагон. Вагон останавливается. Его открывают. В вагоне гроб с телом единственного сына вдовы-генеральши».
Через какое-то время, очевидно, читатель должен был покинуть убитую горем мать и перейти к другим персонажам. Это мы знаем уже из чеховского письма, отправленного издателю А. С. Суворину: «Я пишу роман, очертил уже ясно десять физиономий. Какая интрига! Назвал я его так: „Рассказы из жизни моих друзей“ и пишу его в форме отдельных законченных рассказов, тесно связанных между собой общностью интриги, идеи и действующих лиц. У каждого рассказа особое заглавие… Еле справляюсь с техникой. Слаб еще по этой части и чувствую — делаю массу грубых ошибок. Будут длинноты, будут глупости. Неверных жён, самоубийц, кулаков, добродетельных мужиков, преданных рабов, резонирующих старушек, добрых нянюшек, уездных остряков, красноносых капитанов и „новых“ людей постараюсь избежать, хотя местами сильно сбиваюсь на шаблон».
Дальше пары десятков страниц дело не пошло. Но это не делает Чехова хуже, чем остальные классики. Даже наоборот. Создать гениальный роман, конечно, тоже не каждый способен; но прогреметь на весь мир, написав множество коротких рассказов и совсем немного повестей и пьес, – это дано только лучшим из лучших. Антон Павлович таким и был.
С пьесами Чехову, впрочем, порой работалось не легче, чем с так и не оконченным романом. Мы уже писали о том, как Антон Павлович написал комедию «Леший», которую публика категорически не приняла, а потом нещадно перекроил текст – и получился знаменитый «Дядя Ваня». А вот ещё одну, не вполне для себя типичную, задумку Чехов так и не реализовал.
В тех же 1888-89 гг. классику пришла пьеса о Соломоне – древнееврейском царе, который был не только мудрецом и самым проницательным и справедливым судьёй, но и редким пессимистом. В записной книжке Чехов изложил задумку коротко и ясно: «Соломон сделал большую ошибку, что попросил мудрости». А ещё написал вот такой монолог:
«Соломон (один). О, как темна жизнь! Никакая ночь во дни детства не ужасала меня так своим мраком, как моё непостигаемое бытие. Боже мой, отцу Давиду ты дал лишь дар слагать в одно слова и звуки, петь и хвалить тебя на струнах, сладко плакать, исторгать слёзы из чужих глаз и улыбаться красоте, но мне же зачем дал ещё томящийся дух и не спящую, голодную мысль?
Как насекомое, что родилось из праха, прячусь я во тьме и с отчаянием, со страхом, весь дрожа и холодея, вижу и слышу во всем непостижимую тайну.
К чему это утро? К чему из-за Храма выходит Солнце и золотит пальму? К чему красота жён? И куда торопится эта птица, какой смысл в её полете, если она сама, её птенцы и то место, куда она спешит, подобно мне должны стать прахом?
О, лучше бы я и не родился или был камнем, которому Бог не дал ни глаз, ни мыслей. Чтобы утомить к ночи тело, вчера весь день, как простой работник, таскал я к Храму мрамор; но вот ночь пришла, а я не сплю… Пойду опять и лягу».
Царь Соломон – реальный человек, который жил в X веке до н. э. и властвовал над Израильским царством. Время его правления стало для еврейского народа эпохой невиданного процветания. Также при Соломоне был возведён Иерусалимский Храм – главная святыня еврейского народа, – который спустя три века разрушили по приказу правителя Нововавилонского царства Навуходоноссора II.
Казалось бы, сытое, мирное, свободное время не должно было располагать к экзистенциальным терзаниям, но нет. Сам царь Соломон в книге Екклесиаста изрёк знаменитое: «…во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь».
А ведь царь был не просто верующим человеком, а одним из немногих, кто, согласно Ветхому Завету, слышал голос самого Бога! Но даже Соломон не смог в полной мере найти утешение в вере. Чехову же ближе был агностицизм – философия, которая допускает как существование, так и отсутствие Творца. Так что для Антона Павловича вопросы смысла жизни были даже актуальнее, чем для древнего правителя.
Возможно, Чехов бы со временем всё-таки закончил бы и роман, и пьесу. Но, к сожалению, в 1904 году, в 44-летнем возрасте, он умер от туберкулёза.
М. А. Булгаков, «Театральный роман»
Михаил Афанасьевич Булгаков – ещё один классик, который не смог завершить многие труды из-за тяжёлой болезни. В 1939 году, прохаживаясь в Ленинграде по Невскому проспекту, писатель вдруг обнаружил, что не может прочесть названия магазинов, хотя ещё вчера со зрением у него всё было в порядке. Таким было последствие гипертонической болезни – недуга, который достался Булгакову по наследству. Очень быстро хворь добралась до почек, и писатель умер в страшных мучениях в возрасте 48 лет.
В свои последние месяцы – и даже недели – Булгаков, для которого литература значила едва ли не больше, чем сама жизнь, продолжал надиктовывать супруге правки для романа «Мастер и Маргарита». Так что это произведение технически тоже можно считать незавершённым – мы уже писали почему.
Но если в «Мастере и Маргарите» герои всё-таки благополучно добрались до развязки, то «Театральный роман» оборвался на середине. А жаль, ведь это произведение многие критики называют самым смешным у Михаила Афанасьевича.
Булгаков приступил к работе над «Театральным романом» в 1936 году. Со здоровьем у писателя было всё в порядке – чего нельзя было сказать о психологическом состоянии. Михаил Афанасьевич был буквально раздавлен тем, что на протяжении многих лет пьесы, которые он писал для московских театров, либо исключались из репертуара, либо вовсе не «доживали» до премьеры. Булгаков критически относился к советской власти, так что неудивительно, что цензура запрещала одну его драму за другой, а на «Бег» сам И. В. Сталин написал нечто вроде разгромной рецензии.
Новый роман должен был вобрать всю боль, которую пришлось пережить Булгакову, всякий раз надеявшемуся на смягчение цензуры, и вместе с тем показать абсурд, который творился подчас за театральными кулисами. В произведении – Булгаков, кстати, поначалу собирался назвать его «Записки покойника», – речь идёт о творческом пути некоего Сергея Леонтьевича Максудова. Талантливый автор сначала пробует себя в прозе, но, столкнувшись с обманом издателя, начинает сотрудничество с Независимым Театром (под таким названием в романе выведен ненавистный Булгакову МХАТ, основанный, на минуточку, К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко, чей вклад в развитие отечественного театра трудно переоценить).
Изображая театральное закулисье, «работу» режиссёра (то есть самого Станиславского) и актёров, Михаил Афанасьевич не стеснялся выкручивать контраст на полную. Вот как, например, описывается одна из репетиций:
«…волнующийся Патрикеев (а волнение у него выразилось в том, что глаза его стали плаксивыми) сыграл с актрисой сцену объяснения в любви.
– Так, – сказал Иван Васильевич, живо сверкая глазами сквозь лорнетные стекла, – это никуда не годится. <…> Это какие-то штучки и сплошное наигрывание. Как он относится к этой женщине?
– Любит её, Иван Васильевич! Ах, как любит! – закричал Фома Стриж, следивший всю эту сцену.
– Так, – отозвался Иван Васильевич и опять обратился к Патрикееву: – А вы подумали о том, что такое пламенная любовь? <…> Пламенная любовь, – продолжал Иван Васильевич, – выражается в том, что мужчина на всё готов для любимой. – И приказал: – Подать сюда велосипед!
Приказание Ивана Васильевича вызвало в Стриже восторг, и он закричал беспокойно:
– Эй, бутафоры! Велосипед! <…>
– Влюбленный все делает для своей любимой, – звучно говорил Иван Васильевич, – ест, пьет, ходит и ездит… <…> …так вот, будьте любезны съездить на велосипеде для своей любимой девушки <…>.
Я не сводил глаз со сцены. <…> Патрикеев тронул педали и нетвердо поехал вокруг кресла, одним глазом косясь на суфлёрскую будку, в которую боялся свалиться, а другим на актрису.
В зале заулыбались.
– Совсем не то, – заметил Иван Васильевич, когда Патрикеев остановился, – зачем вы выпучили глаза на бутафора? Вы ездите для него? <…> Ужасно! <…> Мышцы напряжены, вы себе не верите. Распустите мышцы, ослабьте их! Неестественная голова, вашей голове не веришь. <…> Пустой проезд, вы едете пустой, не наполненный вашей возлюбленной».
Заканчиваться это весёлое произведение должно было очень печально: самоубийством отчаявшегося Максудова.
А. А. Фадеев. «Чёрная металлургия»
В отличие от Чехова и Булгакова, А. А. Фадееву дописать ещё одно произведение помешала не болезнь, а глубочайшая творческая «яма», из которой он всеми силами пытался выбраться, но так и не смог.
После феноменального успеха «Молодой гвардии» – романа о подпольной организации, сражавшейся с немецкими оккупантами, – Фадееву поступил заказ от самого И. В. Сталина. После того как Александр Александрович воспел участников Гражданской войны (в «Разгроме») и Великой Отечественной войны (собственно, в «Молодой гвардии»), у него будто бы не оставалось масштабной темы, которую он мог осветить. Вождь народов «подсказал» ему такую – и велел прославить дело мирных тружеников, работавших в промышленности. В частности – на Магнитогорском металлургическом комбинате, где якобы нашли инновационный способ производства стали.
Фадеев не то чтобы боялся Сталина: он совершенно искренне, бескрайне его уважал и, конечно, поддержал высочайшее повеление. Вот только вскоре выяснилось, что никакого научного прорыва не было. Фадеев начал работу над романом в 1951 году, в 1953-м умер Сталин, а в 1955 году грянуло разоблачение, которое практически лишило смысла четырёхлетний труд. Сами посудите, сколько горечи в фадеевском письме, адресованном А. Ф. Колесниковой – девушке, с которой автора всю жизнь связывали нежнейшие, но исключительно платонические отношения:
«В центре моего сюжета находилось одно „великое“ техническое открытие и борьба вокруг его осуществления. Но это „великое“ открытие оказалось чистой „липой“, взращенной высокопоставленными карьеристами, которые ввели тогда в заблуждение и правительство. Кроме того, большую сюжетную роль играла в моем романе борьба с группой так называемых врагов народа, что тоже было мной не выдумано, а взято из реальных материалов.
К счастью для этих людей и к неудаче романиста, дело этих „врагов“ тоже оказалось „липой“. Но ведь я на основании двух этих сюжетных линий построил всю основу своего романа и целую серию характеров. Теперь всё это приходится менять, переделывать, и это, конечно, ужасно нелегко, потому что человек за несколько лет работы привыкает и к своей теме, и к своим героям, и изменить это „на ходу“ невозможно. Фактически роман мой остановился, и мне пришлось изучать материал наново, искать новых людей, новые сюжетные линии...»
Дело осложнялось тем, что первые главы романа уже были опубликованы. Коллеги советовали автору не унывать; так, драматург И. Э. Эренбург полагал, что переделать роман будет не так-то сложно: «Измените немного. Пусть они изобретают что-нибудь другое. Ведь вы пишете о людях, а не о металлургии...» Однако то, что виделось почти элементарным одному, стало непосильной ношей для другого.
Неудача с «Чёрной металлургией», которую Фадеев так и не окончил, серьёзно подкосила автора. Да и после смерти «вождя народов» стараться, по сути, было уже не для кого. При Хрущёве началось развенчание «культа личности» Сталина, от авторов ждали совершенно других произведений, и для писателя это стало последней каплей.
«Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено»: этими словами начинается предсмертная записка А. А. Фадеева. В мае 1965 года писатель покончил с собой.
Использованные источники
- Соболев Ю. Чехов. «Степь» и замыслы романа.
- Дворецкий Л. И. Болезнь и смерть Мастера (о болезни Михаила Булгакова).
- Сарнов Б. М. «Сталин и писатели. Сталин и Фадеев. Сюжет третий. "Жизнь моя, как писателя, теряет смысл..."»