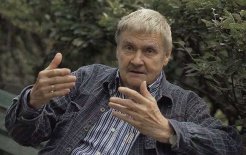Текст: ГодЛитературы.РФ
Кладбища Петербурга — это не только места скорби и памяти, но и уникальная хроника города. Потому в своей книге «Некрополи Петербурга» Маргарита Николаева, создательница просветительского проекта whatiscemetery, приглашает читателей на необычную экскурсию по петербургским некрополям, способным многое рассказать о прошлом и настоящем.
Автор исследует кладбища как своеобразные «зеркала» Петербурга, в которых отразились ключевые события российской истории: строительство новой столицы, эпидемии, революции, войны... На страницах книги оживают истории допетровских захоронений, судьба Медного всадника, дореволюционные проекты крематориев и многое другое.
Предлагаем прочитать фрагмент о том, что происходило с петербургскими кладбищами во времена революции.
Некрополи Петербурга. Адамовы головы, холерные кладбища и Гром-камень / Маргарита Николаева. — Москва : МИФ, 2025. — 224 с.

Революционные события 1917 года изменили многое. Трансформации в законодательной сфере, антирелигиозная пропаганда и государственные репрессии — вот лишь краткий перечень того, что привело похоронную сферу в состояние крайнего упадка, а кладбища оказались либо сильно разрушенными, либо полностью уничтоженными. Однако, несмотря на кажущуюся радикальность изменений, при ближайшем рассмотрении видно, что они во многом наследуют дореволюционным порядкам. О том, как это возможно, мы и поговорим в этой главе.
23 февраля (по новому стилю — 8 марта) началась Февральская революция. Ее итогами стало отречение императора Николая II и создание Временного правительства, а также Петроградского совета — и все это на фоне продолжающейся Первой мировой войны. Петербург, еще в 1914 году переименованный в Петроград, начал меняться.
Первые новшества в сфере некрополей появились сразу после Февральской революции: возникла идея проведения торжественных похорон жертв революции¹ с последующим созданием памятника на месте их погребения. Новой власти это было необходимо для создания революционного места памяти, закрепления себя в пространстве города. Первоначально памятник планировали разместить на Дворцовой площади, однако после протеста деятелей искусства (в том числе художников А. Н. Бенуа, И. Я. Билибина, К. С. Петрова-Водкина, Н. К. Рериха, писателя М. Горького) мемориал было решено устроить на Марсовом поле, бывшем в дореволюционном городе местом неухоженным, пыльным, но тем не менее часто используемым для народных гуляний и военных смотров. Дату похорон назначили на 23 марта, но место начали готовить заранее: освобождали территорию, разрыхляли почву, копали ров.
- Некоторые городские кладбища еще задолго до Февральской революции могли считаться «революционными местами памяти»: например, рядом с Волковскими и Смоленскими кладбищами с начала XX века проходили так называемые «маевки», где собирались революционно настроенные рабочие: отмечали Первомай, выпивали, выступали с речами2. Обычно такие демонстрации очень быстро разгонялись властями, и их участники нередко спасались от городовых, убегая через кладбища.
Вместе с этим новые власти решали, кто будет захоронен на Марсовом, составляли именные списки погибших в февральских столкновениях. Многих из них к началу марта уже похоронили, поэтому из первоначального списка в 266 человек осталось 184, включая и единичный перенос уже погребенных останков одного из рабочих. Также был разработан особый церемониал, исключающий проведение религиозных обрядов над покойными, при этом «…родственники могли совершить религиозные обряды предварительно, а также разместить на гробах белые кресты»3. Это вызывало недовольство многих верующих (казаки, например, вовсе отказались участвовать в церемонии), однако сторонники революции горячо поддерживали новые гражданские похороны: «…конечно, похороны должны быть гражданскими, вне вероисповедания, так как хоронить придется людей разных исповеданий, людей верующих и… совершенно равнодушных к вопросам религии»4.
- При этом весь день 23 марта совершали заупокойные службы в военных храмах, а спустя некоторое время религиозные обряды (отпевание) были проведены и на Марсовом поле.
Торжественные похороны начались 23 марта утром и продолжались до позднего вечера. Гробы, обитые красной тканью и украшенные еловыми ветками, опускали в могилу под выстрелы из Петропавловской крепости. На церемонии присутствовали как члены Временного правительства, Петроградского совета и государственной думы, так и обычные горожане — всего, по разным подсчетам, участвовало от 350 до 800 тысяч человек.
- Красный цвет гробов — привычный для революции — вызывал возмущение у некоторых очевидцев тех событий: «…и потом, не нечестие ли выкрасить гробы в красный цвет? Есть лишь два христианских цвета для гробов: белый и желтый; это так известно, что об этом даже не упоминается в катехизисе. Таким образом, этим дьявольским измышлением выкрасить гробы в красный цвет осквернили покойников. Этого только не доставало!..»5
После первого массового погребения на Марсовом поле продолжали хоронить, но уже в индивидуальном порядке. Все погребенные были революционными деятелями или военными, погибшими на фронтах гражданской войны, — в их числе были В. Володарский, М. Урицкий, С. Восков. Удивительно, но среди похороненных есть и ребенок — восьмилетний Костя Мгебров-чекан, погибший в 1922 году. На гражданской войне он, конечно, не был, мальчик «воевал» на другом фронте — культурном. Будучи сыном артиста, он с пяти лет выступал перед рабочими и солдатами, читал революционные стихи. Нерегулярно, но погребения продолжались и в 1930-е, а последнее состоялось в 1933 году.
Еще в 1917 году было решено облагородить братские могилы, построить временный памятник. Был объявлен конкурс проектов, и среди представленных были весьма необычные идеи. Например, один из авторов предлагал устроить «…одернованную земляную насыпь, которая впоследствии может быть употреблена на планировку Марсова поля. На жертвеннике может быть устроена вольтова дуга под красным стеклом»6 — очень в духе революционного времени! Однако победил более консервативный проект архитектора Л. В. Руднева. Его постройка продолжалась два года, обновленный мемориал был открыт 7 ноября 1919 года, но еще несколько лет после этого продолжалось благоустройство самого Марсова поля: высадка кустов, деревьев, сооружение клумб.
В том же 1917 году в центре Петрограда появилось еще одно кладбище. Оно возникло напротив Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры, когда летом 1917 года там похоронили несколько погибших в уличных боях с большевиками казаков. Однако после того как большевики пришли к власти, могилы казаков были уничтожены, а перед собором начались погребения революционеров, партийных работников, военных, ученых, а также обычных горожан. Кладбище стали называть Коммунистической площадкой. В качестве надгробных сооружений новой элите нередко устанавливали перебивки — дореволюционные надгробия, которые были использованы повторно (как правило, с уничтожением информации о прежнем владельце).
- Перебивка (также рециркуляция надгробий, перелицовка надгробий) — наш термин; названа так потому, что с каменных надгробий (обычно гранитных) стесывали данные о первом погребенном и выбивали новые данные, то есть буквально «перебивали» надгробие. Перебивки могли изготавливать прямо на могиле, могли перемещать в границах кладбища, а также в границах города... Феномен перебивок характерен в первую очередь для советского времени, однако вторичное использование надгробий встречалось и до революции — примеры этого мы видели в предыдущей главе.
Кладбище у Свято-Троицкого собора не стало важным некрополем для новой власти, в отличие от Марсова поля. Марсово же поле, как и было задумано, стало символом революции и всего, что она привнесла в город и страну. Не все принимали эти изменения; для таких людей Марсово поле было «…грязными могилами, в которые была свалена разная революционная падаль»7. Да и Петроград в целом нередко сравнивали с кладбищем: «…нет больше Петровского “окна в Европу”… Петербург обратится в кладбище, в русскую Помпею»8. Эти сравнения стали особенно горько звучать после Октябрьской революции, когда пало Временное правительство, а большевики окончательно укрепились во власти.
В 1918 году в Петрограде не стало спокойнее. Всего через два месяца после Красного Октября у Таврического дворца большевики расстреляли мирную демонстрацию в поддержку Учредительного собрания — органа, который должен был определить государственное устройство страны. Погибших похоронили на Преображенском кладбище рядом с расстрелянными в 1905 году. Эти похороны превратились в «…многотысячную демонстрацию, проходившую под лозунгом: “5 января 1918-го — 9 января 1905-го. Жертвам, павшим в борьбе за народовластие”»9. Вероятно, из-за такого внимания к революционным могилам Преображенское кладбище в 1925 году было переименовано в кладбище Жертв 9 января.
Летом — будто бы мало было революционных потрясений — в город пришла очередная эпидемия холеры. Новая власть по-новому подошла к возникшей проблеме: появилась идея «…впрягать “буржуазию” в телеги для возки трупов и заставлять ее рыть холерные могилы»10. Смертность, впрочем, по сравнению с предыдущими эпидемиями была невысока, что не мешало скептически настроенным к большевистской власти отпускать подобные комментарии: «…уже было до 1000 заболеваний в день. Можно себе представить ярость большевиков! Явно, что холера контрреволюционна, а расстрелять ее нельзя. Приходится выдумывать другие способы борьбы»11.
- 1Марсово поле с 1918 года называли площадью Жертв Революции. Противоречивое название (жертвами революции можно считать как защищавших царский режим, так и борющихся с ним) существовало до 1944 года.
- 2ЦГАИПД СПб. Ф. Р-4000. Оп. 5. Д. 224. Воспоминания о маевке на Волковом.
- 3Измозик В. С., Лебина Н. Б. Петербург советский: «новый человек» в старом пространстве. 1920–1930-е годы. СПб.: Крига, 2010.
- 4Там же.
- 5Дневник П. Морриса.
- 6Проект (временного) оформления братской могилы жертв революции на Марсовом поле в Петрограде, 1917.
- 7Дневник Ф. В. Винберга.
- 8Дневник Р. Хин-гольдовской.
- 9Кобак А. В., Пирютко Ю. М. Исторические кладбища Санкт-Петербурга.
- 10Дневник З. Н. Гиппиус.
- 11Там же.


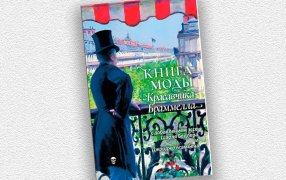



![В.С. Гроссман (12 декабря 1905, Бердичев – 14 сентября 1964, Москва) . [начало 1960-х], РГАЛИ В.С. Гроссман (12 декабря 1905, Бердичев – 14 сентября 1964, Москва) . [начало 1960-х], РГАЛИ](https://glstatic.rg.ru/crop286x180/uploads/images/2025/12/12/efesf_6a8.jpg)