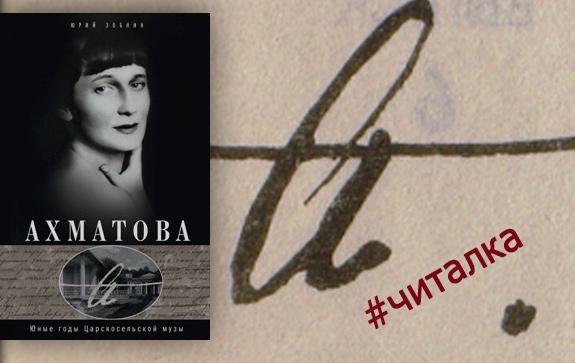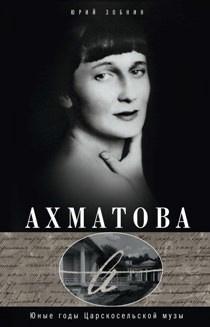Фрагмент книги и обложка предоставлены издательством «Центрполиграф»
Родившаяся 23 июня (11 июня по старому стилю) 1889 года Анна Ахматова вошла в петербургский литературный круг как «юная жена Гумилёва». Но 20-летняя тонкая красавица уже обладала большим эмоциональным и жизненным опытом - иначе она не смогла быстро стать не просто «женой Гумилева», а самостоятельной величиной. Об этом опыте - впервые - и повествует книга Юрия Зобнина. Причем повествует во внеотрывной связи с опытом, переживаемым страной, показывая: знаменитые строки «Я была тогда с моим народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был» Анна Горенко могла применить к себе задолго до 1930-х.
Юрий Зобнин «Ахматова. Юные годы Царкосельской музы»
Издательство «Центрполиграф», 2016
VIII
О том, чтό переживала Ахматова в последние недели «царскосельской» юности, мы можем судить по очень странному, стоящему особняком в её ранней лирике стихотворению 1913 года, обращённому к Валерии Тюльпановой-Срезневской:
Жрицами божественной бессмыслицы
Назвала нас дивная судьба,
Но я точно знаю — нам зачислятся
Бденья у позорного столба.
И свиданье с тем, кто издевается,
И любовь к тому, кто не позвал…
Посмотри туда — он начинается,
Наш кроваво-чёрный карнавал.
«Жрицы божественной бессмыслицы» — это пифии или «вещие гадины» (змея-прорицательница, πῡθία), прозвище жриц храма бога Аполлона в греческих Дельфах, где некогда действовал самый знаменитый в древнем мире оракул («прорицалище»). Пифий выбирали из юных простолюдинок-кликуш, которых, готовя к служению, посвящали Аполлону Мусагету (т. е. «предводителю муз», ибо Дельфийский оракул был расположен на склоне священной горы Парнас). Перед пророчеством пифия омывалась на Парнасе в Кастальском источнике, воды которого сообщали поэтическое вдохновение. Затем девушка поднималась на золотой треножник, стоявший над узкой расщелиной, из которой вырывались ядовитые серные пары. Одурманиваясь ими, пифия в экстатическом беспамятстве начинала выкликивать бессмысленные фразы, часто облечённыев стихо творную форму гекзаметра. Это и была «божественная бессмыслица», в которой содержалось предсказание.
В стихотворении Ахматовой роль золотого дельфийского треножника, орудия пророческого вдохновения, выполняет позорный столб, колодка на деревянной подставке, средневековое приспособление для гражданской казни (часто превращавшейся в казнь физическую, ибо прикованная жертва становилась предметом глумлений разъярённой толпы). Исступлённая пифия, прикрученная к позорному столбу — вот образ, выбранный Ахматовой для автопортрета времён весны 1905 года. Униженная и поруганная, орущая страшные и бессвязные прорицания сквозь встречные вопли и насмешки гнусной площадной черни, не желающей знать грядущей судьбы… Подобный образ неотвратимо ведёт к воспоминанию о Кассандре, отверженной троянской сивилле древности, любимой героине трагических поэтов всех времён, от Эсхилла и Еврипида до литературного крестника Ахматовой Владимира Высоцкого:
Без умолку безумная девица
Кричала: «Ясно вижу Трою павшей в прах!»
Но ясновидцев — впрочем, как и очевидцев —
Во все века сжигали люди на кострах.
Кассандра, дочь троянского царя Приама, была возлюбленной бога Аполлона, который наделил её пророческим даром. Но когда насмешливая троянка перестала отвечать на страстные призывы, разгневанный Аполлон повелел, чтобы Кассандре никто не верил. Родной отец объявил её безумной и держал взаперти. Между тем все страшные пророчества сбылись, гордая Троя была разрушена, а сама пророчица оказалась наложницей в плену, где вскоре погибла.
Кассандрой-пророчицей Ахматову именовали впоследствии бесчисленное множество раз. Но это сопоставление повелось только со времён Мировой войны и Великой революции, когда в её стихах стали отчётливо являться исторические темы, поражавшие современников глубиной провидения. До 1913 года в ней видели (не без основания) исключительно лирическую поэтессу, очень талантливую и популярную, но обращённую исключительно к миру камерных, любовных переживаний:
Я — тишайшая, я — простая…
А широкое признание «пророческого дара» Ахматовой состоялось только в начале 1920-х годов, когда практически одновременно Корней Чуковский, Виктор Жирмунский, Борис Эйхенбаум, Виктор Виноградов заговорили об её поэзии, как явлении историческом и национальном. Тогда же и возник в соединении с ней облик скорбной древней пророчицы, оплакавшей перед своим концом гибель родной Трои.
Но самый первый, краткий, хотя, по-видимому, очень страстный и яростный всплеск профетического вдохновения, случился в её жизни в страшные царскосельские дни апреля-мая 1905 года.
«Я убила душу свою, и глаза мои созданы для слёз.., — писала Ахматова в 1907 году, подытоживая всю эту историю. — Или помните вещую Кассандру. Я одной гранью души примыкаю к тёмному образу этой великой в своем страдании пророчицы. Но до величия мне далеко». Поэтому и «свиданье с тем, кто издевается» и «любовь к тому, кто не позвал» (в 1913 году она уже имела силы назвать точными словами свой опыт общения с Голенищевым-Кутузовым) именуются «дивной судьбою». Неиспытанная ещё душевная боль, унижение и поругание, подобно погружению в струи Кастальских вод, явились для неё внезапной инициацией пророческого дара, а пригвождение к позорному столбу — пифийским треножником, инструментом для возглашения «божественной бессмыслицы».
Стихотворение 1913 года посвящено Валерии Тюльпановой-Срезневской, единственному, по-видимому, человеку, сохранившем в 1905 году для неё связь с прежним, детским и юношеским миром. Прочие отвернулись все. Вероятно, первые дни, пережидая начальную горячность огласки, она вообще оказалась запертой в «барской квартире» в доме Соколовского, точно как троянская Кассандра — по воле разгневанного отца. Это было самым горьким потрясением в произошедшем несчастье.
Андрей Антонович не явил никакого христианского великодушия, и постоянно, являясь на Бульварную, побивал грешницу какими только есть словесными каменьями. Неистребимо привязанная к отцу, верная ему до его кончины и принявшая его последний вздох, Ахматова за десятилетия не могла ни позабыть, ни простить Андрею Антоновичу этой обиды. «— Вас любил отец?» — спрашивал её Павел Лукницкий в 1925 году. После долгой паузы ответила: «Думаю, что любил всё-таки…»
День за днём она выслушивала самые ужасные, непредставимые в родительских устах обвинения, — и вдруг стала отвечать, да так, что потом пришлось долго специально мириться (в ноябре 1906-го (!) она вышлет фотокарточку с робкой надписью: «Дорогому папе от его строптивой Ани» (!!), но окончательное примирение произошло лишь в августе 1908 года (!!!)).
Словно обезумев, с искажённым лицом, она кликушески вопила, что всё погибнет, и рухнет, и провалится в тартарары, что сроки все вышли, что ничего уже не осталось не только у неё, но и у самого Андрея Антоновича, у его семьи и дома, у проклятого Царского Села и у всей страны — всё рухнет, сгорит, пропадёт, уйдёт под воду, расточиться, сгинет…
— Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг!..( Откр. 3. 17.)
Так и пошло дальше. Натыкаясь на улице или в гимназии на очередную ухмылку, смешок или повёрнутую спину, она принималась вдруг шептать или визжать: «Сгинешь! Сгинешь! Сгинешь!..» — как будто на неё постоянно обрушивалось какое-то невероятное прозрение, точное знание того, что её собственная крохотная и смешная для всех любовная «катастрофка» («…до величия мне далеко») как-то связана со стоящей при дверях великой всеобщей катастрофой, в которую входит вся страна.
Можно, конечно, сказать, что любому, окажись он на месте Ахматовой, померещилось бы, что мир рушится вместе с ним, однако в случае с Ахматовой он действительно рухнул. И по всей вероятности — прямо посреди очередной перепалки с отцом в роскошных апартаментах дома Соколовского, утопающего в белом буйстве майской благоухающей черёмухи:
Черёмуха мимо
Прокралась, как сон.
И кто-то: Цусима!
Сказал в телефон.