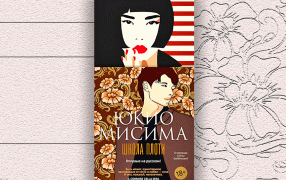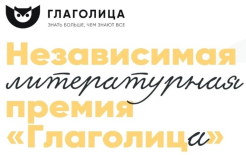Фрагмент книги и обложка предоставлены автором с разрешения издательства
Теория детективного жанра на русском языке не так хорошо разработана, как его практика, — во всяком случае, в количественном отношении. Монография Петра Моисеева — кстати, постоянного автора «Года Литературы» — одна из редких попыток осмыслить популярный во всех смыслах жанр. Приводящая порой автора к неожиданным выводам.
Книга вышла в Издательском доме Высшей школы экономики.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ГЛАВЫ ИЗ ИСТОРИИ ДЕТЕКТИВА
I. Русские предшественники Эдгара По: Чулков, Баратынский, Загоскин
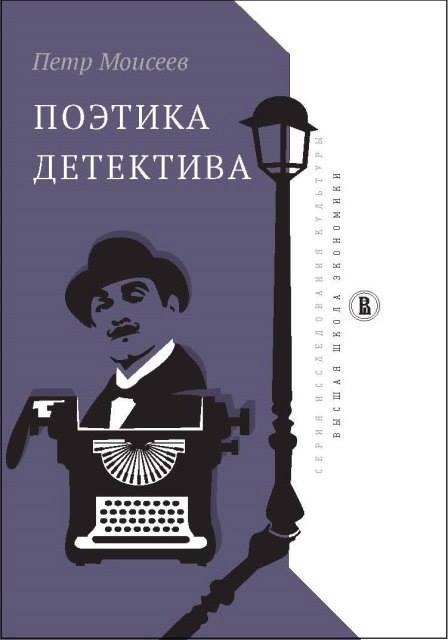
Предупреждение: в этой главе раскрывается сюжетная загадка новеллы Е. А. Баратынского «Перстень».
Как и всякое другое, первенство Эдгара По как создателя детективного жанра было неоднократно оспорено. Самые интересные из доселе предлагавшихся предшественников По — это, во-первых, авторы китайских судебных повестей, стиль которых в XX веке попытался воспроизвести Роберт ван Гулик; во-вторых, это Гофман — автор новеллы «Мадемуазель де Скюдери». Анализ этих произведений и обоснованности определения их как детективов — повод для отдельного разговора. Эта глава посвящена трем произведениям малой формы, принадлежащим перу русских писателей и являющимся тем, что я предлагаю назвать «протодетективами». Что это за протодетективы? Прежде чем отвечать на этот вопрос, напомним вкратце композиционную схему «Убийства на улице Морг», с которого принято начинать историю детектива:
1) открывается новелла кратким рассуждением об аналитических способностях человека;
2) далее следует краткая же история знакомства безымянного рассказчика новеллы с Дюпеном и общая характеристика личности героя;
3) способности Дюпена иллюстрируются живым примером - «чтением мыслей» во время прогулки по Парижу;
4) описание двойного убийства на улице Морг. Описание это имеет два важных для нас аспекта: во-первых, здесь формулируется детективная загадка, и даже не одна, а две (исчезновение убийцы из запертой комнаты и загадка языка, на котором он говорил); во-вторых, автор создает «готическую» атмосферу, на которую вскоре укажет сам Дюпен;
5) герой принимается за расследование,
6) рассказывает своему другу о его результатах и
7) встречается со свидетелем преступления, который подтверждает выводы Дюпена.
Из трех разбираемых произведений ближе всего к этой схеме стоит новелла Михаила Николаевича Загоскина «Белое привидение» из цикла «Вечер на Хопре». «Вечер» Загоскина был впервые опубликован в 1834 году — за семь лет до новеллы По. Воспроизведем, в свою очередь, композицию «Белого привидения»:
1) экспозиция — главный герой (он же рассказчик) сообщает о том, как он попал на место действия основных событий новеллы;
2) герой знакомится с некоторыми обитателями виллы, где ему предстоит жить;
3) формулируется детективная загадка. Она, как и в новелле По, сочетает детектив и «готику»: во флигеле рядом с виллой каждый вечер появляется фигура в белом, которая проходит сквозь стены. Интересно, что, в отличие от «Убийства на улице Морг», а) описание внутренне противоречивой ситуации дается не по «горячим следам», а спустя некоторое время после начала еженощных видений; б) ситуация эта не связана с преступлением; оба этих обстоятельства впоследствии окажутся для нас очень важны;
4) герой описывает реакцию слушателей на рассказ о привидении,
5) разгадывает тайну, не делясь с читателем своими выводами,
6) описывает развязку всей истории и
7) несколько лет спустя раскрывает своим друзьям подробности, оставшиеся неясными из предыдущего рассказа.
Мы видим, что в новелле Загоскина есть главная черта любого детектива — загадка. С чем же связано несправедливое забвение этого маленького шедевра? Безусловно, у Загоскина мы не видим некоторых элементов, присутствующих в новелле По.
Например, американец обильно уснащает свой детектив философскими рассуждениями, отсутствующими у русского. Но можно ли сказать, что именно это обстоятельство привело к меньшей известности «Белого привидения»? Примеры хотя бы Уилки Коллинза, Конан Дойля и Агаты Кристи, отнюдь не увлекавшихся философией, говорят об обратном.
Гораздо большую роль сыграли, конечно, другие обстоятельства. Во-первых, способ публикации: «Убийство на улице Морг» было опубликовано в журнале, «Белое привидение» — в составе цикла новелл. Такая форма настраивает на восприятие всей книги как единого целого, притом, что различия между частями достаточно заметны. Но они заметны именно как свидетельство того, что автор способен написать целую книгу более или менее разнообразных произведений. Можно сказать, что у Загоскина хорошо заметны различия между этими произведениями, но плохо заметны, сливаются воедино сами новеллы (несмотря на их действительно высокий литературный уровень).
Во-вторых, общий контекст «Вечера на Хопре» также мешает заметить новаторство «Белого привидения»: перед нами очень хороший, но довольно характерный для своего времени сборник романтических новелл. Доминирует в сборнике фантастический жанр; при этом в ряде случаев Загоскин, подобно Гофману или Пушкину (в «Пиковой даме»), предлагает читателю возможность двойного объяснения событий — реалистического и фантастического. В «Белом привидении» мы находим дальнейшее развитие этого принципа — тут фантастическое объяснение отбрасывается полностью. С другой стороны, возможность такого объяснения нужна здесь именно для того, чтобы от него отказаться. Другими словами, здесь мы имеем дело с частным случаем пресловутой романтической (само)иронии. Выяснение отношений с фантастическим задается, повторимся, всем контекстом цикла и не дает читателю (даже нашего времени, не говоря уже о современниках Загоскина) заметить черты «Белого привидения», предвещающие рождение нового жанра. Больше того: видимо, новаторство Загоскина осталось незамеченным им самим!
В-третьих: романтическая фантастика часто имеет «готический» колорит. И, иронизируя над ложным фантастическим объяснением происходящего, Загоскин одновременно иронизирует и над «готическим» жанром. При этом сам прием (разоблачение псевдофантастики) не обязательно подразумевает иронию. А обращение к «готике» не обязательно подразумевает фантастичность сюжета. И если Загоскин разделывается сразу с «готическим» жанром и фантастическим объяснением событий, то По использует «готический» колорит — и находит весьма выгодное обрамление для своей загадки (точнее, загадок). Как говорит сам Дюпен, «боюсь, что в газетном отчете отсутствует главное… то чувство невыразимого ужаса, которым веет от этого происшествия». «Готическая» аранжировка загадки настраивает читателя на более серьезный лад. Этой же цели (неважно, сознательно поставленной или нет) служит и центральное событие сюжета — преступление. Опасность подстегивает воображение и завораживает гораздо сильнее; убийца, ускользающий из запертой комнаты, впечатляет нас больше, чем относительно безобидный призрак, могущий разве что напугать до полусмерти. Новелла русского романтика близка к анекдоту, это, в конечном счете, просто забавное (хотя на первый взгляд необъяснимое) происшествие. Оно интригует, но не пугает.
В-четвертых: детективу полезен сыщик. Речь идет не о формальном наличии образа, а об образе живом, ярком. Такой сыщик еще не создает детектива (хороший пример — произведения Рекса Стаута), но без него даже хорошим детективам чего-то не хватает (пример — повести Павла Шестакова об Игоре Мазине, фигуре крайне бледной и невыразительной). Парадоксально, но романтику Загоскину не очень удавались романтические герои — что в его исторических романах, что в «готических» и псевдоготических произведениях. Герой «Белого привидения» — чистая функция; он приходит, видит, слышит, догадывается, разоблачает. Автор не уделяет ему того внимания, которое По уделил Дюпену. «Убийство на улице Морг» содержит настолько подробный портрет «великого сыщика», что почти грешит против занимательности: сюжет начинает разворачиваться чуть ли не во второй трети новеллы. Но это откладывание повествования оказывается мнимым: По, обрисовывая интеллектуальную мощь Дюпена, намекает на соответствующие препятствия, которые этому интеллекту придется преодолеть. Рассказ о расследовании представляет собой третий этап постепенного развертывания образа: первым этапом было описание Дюпена, полностью принадлежащее повествователю; второй частью — проявление героем своих способностей («чтение мыслей») — своего рода разминка перед настоящим испытанием.
Интересно, что Загоскин уже соблюдает правила «честной игры», которых, кстати, не придерживался По. Невозможно, дочитав «Убийство на улице Морг» или «Похищенное письмо» до объяснений Дюпена, догадаться, какова разгадка. По утаивает результаты наблюдений героя: он умалчивает о сломанном гвозде в оконной раме, об особенностях отпечатка ладони убийцы; есть важное умолчание и в «Похищенном письме». Загоскин сообщает читателю все необходимые сведения, так что у того есть возможность испортить себе удовольствие и самому догадаться о подоплеке событий.
На этом, однако, наше продвижение к истокам жанра в русской литературе не заканчивается.
В 1831 году — за три года до «Вечера на Хопре» и за десять до «Убийства на улице Морг» Баратынский опубликовал новеллу «Перстень». Она отстоит дальше от детектива, чем новелла Загоскина. С другой стороны, выстроена она в чем-то сложнее, чем «Белое привидение». Здесь самокритика и самоирония романтизма оказываются более радикальными, чем впоследствии у Загоскина. В «Белом привидении» разоблачение «готики» как раз будет работать на создание протодетектива; у Баратынского же протодетектив и полемика с романтизмом существуют как бы в разных плоскостях. Чтобы разобраться в их соотношении, а также оценить степень детективности «Перстня», снова обратимся к композиции:
1) новелла практически сразу ставит нас перед детективной загадкой — ее изложению предшествует лишь очень краткая экспозиция. Загадка следующая: бедный помещик Дубровин посещает своего соседа — богатого помещика Опальского — и просит одолжить ему денег. Опальский соглашается, но приводит очень странное объяснение своей доброты: он ни в чем не может отказать владельцу перстня, который носит Дубровин. Герою перстень подарила жена, которая получила его в подарок от подруги Анны Петровны, которая получила его в подарок от знакомой, которой принес его дворовый мальчик, нашедший перстень на дороге. Таким образом, след перстня теряется, но это — с точки зрения детектива — и неважно. Постепенное выяснение того, кому принадлежал перстень, не могло бы служить объяснением его странной власти над Опальским;
2) следующий элемент композиции — вставная новелла, предлагающая фантастическое объяснение происходящего. У Загоскина такое объяснение было редуцировано — оно давалось вместе с формулировкой загадки и представляло собой простую констатацию существования привидений. Баратынский предвосхищает более позднее рассмотрение разных ложных версий, которое появляется в детективе уже у Эдгара По. Развернутое изложение ложной версии здесь необходимо ввиду более сложной загадки: недостаточно просто заявить о том, что перстень обладает магической силой — надо описать происхождение и механику воздействия этой силы. Вставная новелла, взятая отдельно, является типичной «готической» новеллой — с колдовством и неистовыми страстями. Когда мы, прочитав ее, доходим наконец до разгадки тайны, то понимаем, что для Баратынского было чуть ли не важнее всего опровергнуть именно этот — неистово-«готический» — вариант романтизма, чем придумать по-настоящему хорошую детективную развязку. Начиная со вставной новеллы, движение повествования несколько изменяет направление. Поставив в начале «Перстня» чисто детективный вопрос — как может быть то, чего не может быть никогда? (то есть как перстень может управлять человеком, если мы отбрасываем мистическое объяснение) — в середине новеллы Баратынский уже больше озабочен другим вопросом: неужели объяснение в духе «готического» романа действительно может иметь место? Для того чтобы детектив состоялся в полной мере, мы должны были бы с самого начала (как это вскоре сделает Загоскин) отбросить мистическую мотивировку, будучи в то же самое время не в силах найти никакой другой мотивировки. Баратынский же, судя по всему, видел свою главную задачу именно в разоблачении «готики»; поэтому и
3) развязка, которую он нам предлагает в финале «Перстня», с точки зрения детектива оказывается не вполне приемлемой.
Дело в том, что автор детектива, предлагая читателю загадку, по умолчанию отбрасывает не только фантастическое объяснение; есть еще по меньшей мере два варианта развязки, оставляющие у читателя чувство разочарования. Один из них — констатация ошибки свидетеля. Свидетель в детективе может лгать, но не может ошибаться. Это правило нарушает Достоевский в «Братьях Карамазовых», тем самым лишний раз демонстрируя, что его роман лишь притворяется детективом. Другое возможное, но неудовлетворительное, сводящее на нет весь интерес объяснение, – апелляция к безумию свидетеля. Именно такую разгадку предлагает нам Баратынский. Справедливости ради надо отметить три «смягчающих обстоятельства»: во-первых, как уже отмечалось выше, главной целью писателя в «Перстне» была, видимо, полемика с крайностями романтизма. Во-вторых, придумать хорошую загадку легче, чем хорошую разгадку (характерный пример — некоторые романы Джона Диксона Карра). В-третьих, Баратынский все же не ограничивается простой ссылкой на сумасшествие Опальского. Из финального объяснения произошедшего мы узнаем, что вставная новелла носила не полностью вымышленный характер. События, описанные в ней, имели место, но в первом случае о них рассказывает безумец, чем и обусловливается ее фантастический колорит.
Однако и до Баратынского был в русской литературе писатель, вплотную подошедший к открытию нового жанра. В 1766—1789 годах Михаил Дмитриевич Чулков выпускал отдельными частями свой сборник рассказов «Пересмешник, или Словенские сказки» — возможно, лучшее его произведение. Если Баратынский, Загоскин и По — романтики, то творчество Чулкова — и в первую очередь именно благодаря «Пересмешнику» — относят к предромантизму. «Пересмешник» — произведение в жанровом плане неоднородное, что вполне согласуется с установкой пред- и просто романтиков на уничтожение жанровой иерархии и творческое разнообразие. Помимо рыцарских (точнее, «богатырских») повестей, в книгу Чулкова входят и бытовые новеллы и рассказы; самым известным таким рассказом является «Горькая участь», вошедшая в пятую часть «Пересмешника» (1789). Необходимо отметить, что исследователи отмечали близость «Участи» к детективу; С. В. Сапожков назвал ее «первым образцом детективного жанра в отечественной литературе». Это определение грешит двумя неточностями: с одной стороны, новелла Чулкова — еще не вполне детектив. Если «Белое привидение» и «Перстень — скорее протодетективы, то «Горькая участь» — детектив эмбриональный. Здесь мы не просто имеем дело с недозревшей жанровой структурой, как у Баратынского, здесь весь детектив умещается в несколько абзацев, причем жанровая схема выглядит гораздо более простой, чем в «Перстне». С другой стороны (возвращаясь к определению С.Сапожкова), это первый «эмбриональный» детектив не только в отечественной, а и в зарубежной литературе.
Даже читатель, не знакомый с «Горькой участью», не может не смутиться, сопоставив все вышесказанное хотя бы с названием чулковского рассказа. В самом деле, если исходить из того, что название формулирует поставленную писателем художественную задачу, тогда центральными частями произведения оказываются первая его половина, а также последние строки. Свойственный предромантизму интерес к «простому человеку» здесь доминирует. Горькая участь — это участь крестьянина Сысоя Дурносопова, разумеется, бедного, разумеется, сданного в солдаты в обход всех существовавших правил. Венчается повествование достойным финалом: «…несчастный воин, похоронив всю свою семью и употребив остатки имения на погребенье их, остался наследником двора своего родителя, без скота и хлеба, которых гораздо не великое количество им было найдено; а что всего еще более и бедному человеку чувствительнее, и без правой руки своей, без которой он не токмо целого, но и половины доброго и прилежного крестьянина составить не мог». Ради порядка снова охарактеризуем композицию произведения:
1) общая характеристика крестьянской «участи» и знакомство с героем; упоминание о богатых крестьянах — «съедугах», помыкающих бедняками;
2) рассказ о том, как «съедуги» решают сдать Сысоя в рекруты;
3) служба Сысоя, его ранение (делающее его нетрудоспособным) и отставка. Чулков сразу после этих событий мог бы перейти к развязке. Но перед приведенными выше последними словами новеллы есть еще один эпизод —
4) возвращение Сысоя на малую родину. Вот в этом заключительном эпизоде и уместился эмбрион детектива.
Вернувшись, Дурносопов обнаруживает, что все его родные зверски убиты — причем ворота во двор заперты изнутри. В контексте всего произведения это событие — последняя капля в чаше несчастий героя; подобное «крушение у входа в гавань» впоследствии переживет героиня «Тупейного художника». Но для такой цели эпизод избыточен: достаточно было бы просто погубить семью Сысоя — причем даже не прибегая к убийству. Чулков изобретает загадочное преступление, причем останавливается в полушаге от изобретения убийства в запертой комнате.
Вообще в «Горькой участи» писатель словно забывает о своем писательском статусе: он, беллетрист, автор и бытовых, и сказочных, но всегда занимательных произведений, внезапно начинает рассказывать историю, более уместную в творчестве кого-то из представителей «высокой» литературы, не обязанной развлекать читателя. «Горькую участь» легче рассматривать на фоне «Отрывка из путешествия в И*** Т***», «Путешествия из Петербурга в Москву», может быть, «Бедной Лизы», чем даже на фоне «Пригожей поварихи». Возможно, именно этим и объясняется резкий «поворот руля» незадолго до конца рассказа — Чулков словно спохватывается и вспоминает, что с него причитается занимательность, а не только правда жизни. Во всяком случае, появление «эмбрионального детектива» здесь по меньшей мере неожиданно, чтобы не сказать не мотивировано.
Почему мы называем «Горькую участь» эмбриональным детективом? Один из ответов очевиден: загадка и ее решение освещаются не во всем рассказе. Но это только во-первых.
Во-вторых, раскрытие загадки непосредственно к ней примыкает. Безусловно, новелла больше отвечает природе детектива, чем крупная форма. Но новелла все-таки подразумевает динамику. Читателя нужно заинтриговать; а чтобы он оказался по-настоящему заинтригован, его надо потомить на медленном огне. Холмс или любой другой «великий сыщик» может решить загадку не сходя с места; но все же между рассказом о странном происшествии и объяснением должна возникнуть некоторая пауза, заполненная хотя бы восклицаниями вроде «Как это могло случиться?» или выдвижением и опровержением ложных версий. Читая Чулкова, мы не успеваем «разогреться», как уже узнаем разгадку.
В-третьих, у Чулкова возникает сложность с фигурой сыщика. Сыщика впоследствии не будет и у Баратынского (Дубровин пассивен, он сначала становится свидетелем странных событий, а потом узнает их объяснение), а у Загоскина он, как уже говорилось, безлик. Но у Чулкова неоткуда взяться не только сыщику-функции Загоскина, но и Дубровину, который все-таки заинтересован в раскрытии тайны. Дурносопов – фигура не просто пассивная, а страдающая. Поэтому перед Чулковым открывались два пути: поменять героя прямо «на ходу», введя в повествование сыщика (что привело бы к уходу сюжета «в сторону»), или свернуть расследование до нескольких строк. Именно этот вариант и предпочел писатель. О ходе расследования в «Горькой участи» нет и речи; не говорится и о том, как именно была раскрыта тайна (ход, который в детективе будет недопустимым). Более того: не называются даже имена, даже профессии сыщиков; они именуются без затей – «люди ученые того времени». Мы (и не только мы) уже говорили о значимости фигуры великого сыщика; детективная загадка должна быть действительно в высшей степени мощной, чтобы компенсировать отсутствие Дюпена, Холмса, Фандорина, Пуаро, Бакунина или мисс Марпл. Такую загадку мы находим, например, в «Лунном камне», у Инны Булгаковой, в некоторых романах Буало-Нарсежака. Если же пытаться охарактеризовать загадку, придуманную Чулковым, то надо будет сказать, что,
В-четвертых, предлагаемое автором решение выглядит слишком сложным (высказывание Честертона на эту тему я уже приводил в первой части). У Чулкова загадка кажется скорее простой (мы можем не догадаться, какое значение имеет разнообразие способов убийства), а разгадка, напротив, оказывается сложной. Цепь событий, которую удается восстановить «ученым людям того времени», слишком причудлива и отчасти основана на случайности и совпадениях. У нас не возникает чувства озарения — «ну конечно, как же я сам не догадался!» — хотя мы не можем не восхититься изобретательностью автора. У Чулкова была возможность сделать эту сложность менее заметной. Для этого ему надо было бы посвятить расследованию целую новеллу, еще лучше — повесть, а не две страницы. Авторы, сознательно (в отличие от Чулкова) работающие в жанре детектива, нередко прибегают к этому приему. Когда разгадка открывается нам постепенно, у писателя есть возможность рассредоточить совпадения и натяжки по пространству книги так, что они уже не режут глаз.
Из всего сказанного очевидно, что русские писатели постепенно продвигались к открытию формулы детективного жанра и остановились, лишь подойдя к этому открытию вплотную.