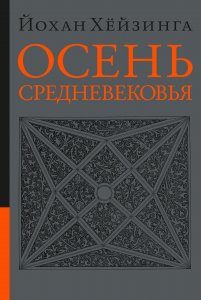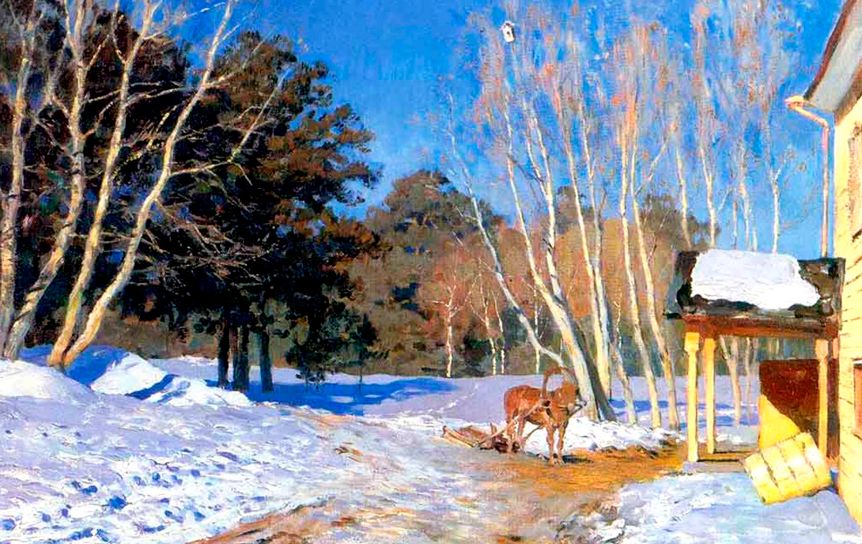Текст: Вадим Левенталь
Фото с сайта www.cult-turist.ru
…На третий день игры пошел дождь и не прекращался следующие три дня. Не прекращался ни на минуту - лил как из ведра или слегка моросил, но шел. Палатки стояли в воде, ни у кого не было сухой одежды, было трудно готовить. Вечером третьего дня датчане взяли Лондон, и лондонские беженцы толпой пришли спасаться к нам в Эдинбург (или наоборот, не помню). Под тентом, который прикрывал костер и стол, прижавшись друг к другу, молча стояли около пятидесяти человек. Еды на всех не хватало, передавали кружки с кипятком. Все были подавлены - ясно было, что датчане не остановятся, и организовать оборону уже не хватит времени и не хватит сил, какая уж оборона, если все продрогли и голодны. Безнадега. Кто-то сказал:
вот теперь такое чувство, будто и в самом деле Средневековье.
Кто подростком жил и мыслил в девяностые, тот скорее всего играл в ролевые игры, а ролевые игры - это влюбленность в Средние века, побег от свинцовых мерзостей дикой постсоветской жизни туда, в Средневековье. Почему не в belle epoque? Почему не к мушкетерам и не к индейцам? Почему не античность или, там, древний Египет или Китай?
Да и только ли мы, никому не нужные подростки девяностых? Нет ли ощущения, что весь XX век оглядывается именно туда, в европейское Средневековье, грезит им и тоскует по нему — от Вагнера и А. Блока через Толкина и Бахтина и далее везде, вплоть до «Игры престолов»?
Может быть, в этом неловко признаваться?
Слегка стыдно говорить: играл-де в ролевые игры; ухмыляешься, как бы говоря: ну, маленький же был, с подростка какой спрос. И какой спрос с XX века? Понятно, есть серьезные дела - работа, семья, новости, рынки, войны и рост производства, - а это грезы, фантазии, ерунда, это для малолеток. Сделать жизнь значительно трудней. И все же, и все же.
Нет, само собой, невозможно представить, чтобы вот сейчас завернуться в занавеску, взять спиленную клюшку и поехать в лес, чтобы изображать из себя рыцаря или эльфа. Мы же взрослые люди, мы редко рискуем бесплатно (тут тоже надо хохотнуть). Но думая о себе двадцатилетней давности я не нахожу в себе к себе презрения — работать надо, учиться, делом заниматься, — скорее сочувствие и понимание.
И поэтому снова: почему именно Средневековье? Не Гражданская война и не Великая Французская Революция, не Вавилон и не Флоренция, а вот это вот все - рыцари и дамы, вассалы и сеньоры, феодальное общество и народная смеховая культура?
Ответ на этот вопрос мы - и весь двадцатый век — искали в книгах: Ле Гофф, М. Блок, Гуревич, Бахтин, Хёйзинга. Прежде всего - Хёйзинга. У автора этих строк Хёйзинга был после всех остальных, но это ничего не меняет - Хёйзинга, конечно, прежде всего.
Блок, возможно, основательнее, Ле Гофф, вероятно, шире, Бахтин, не исключено, глубже, а Гуревич, может быть, точнее, и все же «Осень Средневековья» Хёйзинги, как хлеб, — всему голова.
Там, в Хибинах, прячась от проливного дождя под тентом, несколько десятков промокших, голодных подростков испытывали одно на всех чувство - чувство, будто они захватили немного Средневековья и еще - будто это-то и есть настоящая жизнь, жизнь, подобающая человеку.
Почему - как раз и становится понятно читателю Хёйзинги.
Потому чтоСредние века — это эпоха пафоса и страсти,
время взвинченных до предела крайностей и люди высокого градуса горения.Капитализм, начавший свой стремительный разгон в конце XV века, все это сдал в архив — скупому рыцарю противопоказаны высокие проявления духа. Ему одинаково вредны как неистовая вера, так и яростное богоборчество, как беззаветная любовь, так и оргиастическое безумие, как демоническая гордость, так и полное самоуничижение. Все это, как убедительно показывает Хёйзинга, — стихия Средневековья.
«Из всех видов отношения к жизни эстетическая сторона была разработана с особой выразительностью». Тут нужно представить себе коммерсанта, вкладывающего деньги, «потому что это красиво».
Между тем, кажется очень сомнительным, чтобы человек был создан для того, чтобы складывать копеечку к копеечке, брать выгодные кредиты, кушать полезную еду и улучшать жилищные условия. А если не был создан — то стоило ли ради этого происходить от обезьяны?
Критики Маркса, Маркса не читавшие, делают вид, будто Маркс механизирует человека — ничего подобного, ровно наоборот: главный пафос Маркса — человеку не подобает по восемь часов в сутки быть придатком машины, человеку подобают досуг и свободное творчество.
Человеку подобает быть человеком на полную катушку.
И либо из человека произойдет, по Секацкому, хуматон, либо — он отвоюет себе право на пафос, право на страсть, на подвиг, на подлинно человеческое в себе.
Не вялые «отношения», а — любовь. Не «как бы чего не вышло», а — широкий жест. Не one night stand, а — оргия. Не отпуск, а — Крестовый поход. Не работа, а — служение. Аскеза или пир, но не в коем случае не диета.
Иначе Господь, как обещал, изблюет нас из уст Своих.
Средневековье в этом смысле оказывается для нас, жителей эпохи позднего капитализма, тем самым, чем для человека, погрязшего в ипотеке и ремонте, мечтающего о новом айфоне и копящего на отпуск «все включено», — поблекшая фотография, на которой он стоит в лесу, с занавеской на плечах и обрезанной клюшкой в руке. Да, смешно и нелепо, глуповато и стыдно, никому не покажешь и не признаешься. И все же некоторым странным образом вот этот несмышленый подросток мечтал, горел, любил и совершал подвиги, был жив и чувствовал себя живым каждую секунду своей жизни, не важно, счастливую или трудную, смотрел на мир и видел в нем красоту, а ты — смотришь на холодильник и думаешь, что, пожалуй, было бы неплохо его поменять, а сильные эмоции испытываешь, только когда телевизор показывает, как наши прорываются к воротам, да и хватает этого заряда на пару минут, не больше.
Думал ли об этом Хёйзинга или это получилось бессознательно, но у «Осени Средневековья» именно такая интонация — слегка снисходительная, немного как бы за своих героев извиняющаяся и в то же время ностальгическая, мечтательная.
Разумеется, это не значит, что в Средневековье можно или даже должно вернуться. Взрослый дяденька в занавеске и с обрезанной клюшкой будет только смешон без всякого умиления. Человечество не станет моложе и не отрежет от себя пять веков истории, не забудет физику и экономику, не разучится строить ракеты и не сделает вид, будто не читало постструктуралистов.
Но значит ли это, что человечество обречено? Что следующий за homo sapiens вид, без эмоций и иллюзий, без стремления к подвигу и революции, без любви и страсти, вид, бесконечно свайпающий, лайкающий и селфящийся (о нет, это не homo ludens!), — этот вид будет с холодным спокойствием изучать своих прародителей, нас, с нашими нелепыми и нерациональными страстями?
Может быть и так.
Но вовсе не обязательно.
И если у нас есть надежда, то это значит, что Средневековье нужно хранить как память или даже как памятку, чтобы иногда сверяться с ним, не давать себе забыть, что значит быть человеком. Не возвращаться в прошлое, но идти в будущее, становиться взрослым, держа в голове тот вечер в лесу, когда ты был маленьким и глупым, но по-настоящему, без дураков живым, — помнить и подглядывать туда, как в шпаргалку:а сейчас? сейчас я живу? или?
Хороший способ сделать это — перечитать «Осень Средневековья».

Хёйзинга Йохан. Осень Средневековья / пер. с нидерл. Д.В. Сильвестрова – СПб, Издательство Ивана Лимбаха, 2016