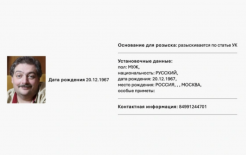8 сентября отметил бы юбилей один из самых культовых поэтов современности, о котором не утихают споры, — Борис Рыжий. По совпадению, в эти же дни исполняется восемь лет с выхода первого тома антологии «Уйти. Остаться. Жить» (составители Борис Кутенков, Ирина Медведева, Елена Семёнова, Владимир Коркунов; составители следующих томов – Борис Кутенков, Николай Милешкин, Елена Семёнова), включившей многие и многие стихи поэтов, ушедших в постперестроечное время, статьи и воспоминания о них. Сейчас готовится отдельный том антологии, посвящённый ушедшим в 2000-е годы.
В настоящем материале Ольга Василевская рассуждает о поэтическом поколении, чья юность пришлась на окончание эры СССР: двух героях антологии, Игоре Поглазове (1966 – 1980) и Максе Батурине (1965 – 1997), чьи книги «Я ни о чём не жалею…» и «Гений офигений» недавно увидели свет, и о Борисе Рыжем.

Текст: Ольга Василевская
В рудниках поэзии. Борис Рыжий
Можно ли быть юным всю жизнь? Не взрослеть, отключив функцию страха, дерзить существующей реальности? Наверное, можно. Но не всем дано. Эта спецнастройка всегда раздавалась рандомно, и её обладатели становились поэтами, хранителями той самой вечной юности, не законсервированной, а живой. Может быть, поэтому их жизнь зачастую проходит словно на ускоренной перемотке, за которой не поспевает неповоротливо-закоснелое реальное время. Увидеть, выхватить, показать Вселенной увиденное — успеть всё это одновременно, пока не обогнала тебя воинствующая серость, которая тоже хочет попасть в стихи. Труднее всего фиксировать времена, когда одна историческая эпоха выталкивает другую, когда шум времени заглушает любое тихое Слово.
Вот и повзрослело и даже слегка поседело то поколение, чьё детство помнит улетающего в поднебесье мишку, символа Олимпиады-80, чья юность пришлась на окончание эры СССР, время талонов на мыло и масло, горящих ларьков, «Санта-Барбары» и запустения библиотек. Именно это поколение сейчас легко ностальгирует о том времени, где «как хорошо мы плохо жили». Автору этой фразы Борису Рыжему 8 сентября исполнилось бы 50 лет. Наверное, нет больше такой фигуры в поэзии конца XX века, кто бы всего за 23 года после своего ухода оставил за собой такой увесистый шлейф в виде спектаклей, перформансов, фильмов (самый новый выходит в прокат в ближайшие дни), и это мы ещё умалчиваем о воспоминаниях, литературоведческих исследованиях и диссертациях.
Очевидно, что творчество Рыжего, как и вся его жизнь на сломе эпох, — погранично. Оно — между масскультурой и высокой интеллектуальной литературой. Оно понятно и таксистам, которые в юности тайком графоманили в стол, и гоповатым детям рабочих окраин, и высоколобым профи. Забористые и наполненные светом всей мировой культуры строки Рыжего уравняли тех и этих. Наверное, потому, что он сам был всем сразу. Плоть от плоти промышленного района Вторчермет, он мог бы стать первоклассным и даже заслуженным горным инженером («горнистом», как говорил он сам) и спокойно дожить до наших дней. Но стихи опередили выбор профессии, войдя в его жизнь в подростковом возрасте.
Этот парень с немного детским, широко распахнутым взглядом, наверное, так и остался немного подростком, недопонятым и недолюбленным этой жизнью, не принятый полностью ни знатоками словесности, называвшими его «хулиганом от культуры», ни простыми пацанами.

Юрий Казарин писал о том, что словосочетание «трагический поэт» — тавтология. Поэзия, идущая изнутри, — уже трагедия. С этим можно не соглашаться, но по энергетической отдаче она равна той, что происходит в забое, при добыче руды. Вопреки имиджу, созданному невольно им самим (этакий «озорной гуляка», только не московский, а свердловский), Борис Рыжий был скорее домоседом, для которого творчество было превыше многих соблазнов новой жизни лихого десятилетия. Просто он был парнем с широко распахнутыми глазами, многое подмечавшим и слишком близко принимавшим, в том числе и на свой счёт. Поэт — человек сомневающийся. Сомневающийся в результате своего труда по добыче ещё нужной кому-то словесной руды, в правомерности своих амбиций — встроиться хоть малым кирпичиком в контекст на тот момент шаткого литературного здания. Главное, что он неожиданно вернул поэзии её первоначальный смысл — соединять несоединимое, быть не только для небожителей, но и для земных людей, которые наконец-то начали снова читать стихи. Это всё — вместе с горьким привкусом сомнения и неустроенности, — было очень тяжёлой работой, которой душа поэта от роду 26 лет вынести не смогла. Но мы жили и живём с ним в одно время, всё ещё странное, но располагающее именно сейчас взглянуть на самих себя и на новый век, отторгнувший Бориса, немножко его большими, по-детски удивлёнными глазами.
Мальчик, который не умел плакать. Игорь Поглазов

За время существования поэзии, особенно в том виде, в какой мы её знаем по школьным учебникам, она обросла довольно толстым слоем стереотипов (что само по себе странно) и затвердевших о ней представлений. Поэты — априори мечтатели и борцы с чем-нибудь, выглядят эпатажно и сплошь погрязли в зависимостях, их часто убивали на дуэлях. А что, если мечта сбывается посмертно через несколько десятилетий, настоящая зависимость — лишь от обострённого чувства справедливости, а единственная дуэль, которая длилась всю жизнь, — с самим собой? И жизни той — всего 14 лет. Выход в этом году в минском издательстве «Колорград» книга Игоря Поглазова «Я ни о чём не жалею» (составитель Вера Борисовна Поглазова) и стал той самой «сбычей мечт» через много лет. Пушкинское «глаголом жечь сердца людей» перестаёт быть банальностью, когда в этом огне в первую очередь сгорает сам поэт. Читая стихи Поглазова, а затем и его биографию, написанную его матерью Верой Борисовной, невольно хочется ходить по улицам и заглядывать в глаза обычным подросткам, не «ботаникам», не «оторви-и-выкинь», а тем, кто просто идёт из школы. О чём они разговаривают, что звучит в их наушниках и какие тайны прячут их глаза? А вдруг вот этот мальчик тоже пишет стихи и не знает, что с этим делать?
Игорь Поглазов, и по свидетельству Давида Самойлова (который написал о нём статью, ставшую предисловием к книге), и по словам мамы, практически ничем не отличался от сверстников: так же дрался с мальчишками, ходил на танцы, влюблялся в девочек, увлекался спортом, шалил и конфликтовал с учителями. Выделялся он только высоким ростом и не по годам глубоким, осмысленным взглядом, чрезмерной самостоятельностью и полным отсутствием страха.
Его поэтическая активность пришлась на два последних года жизни-вспышки. Первые стихи, находимые родителями в комнате сына, были несколько неумелыми технически (неровный ритм, тавтологические рифмы), но внезапно наполненными глубиной смысла и какой-то идущей из глубины сознания новизной образов. Удивление взрослых было понятно. Школьная программа по литературе для седьмого класса в советской Белоруссии не предполагала такого расширения круга чтения, которое мы внезапно обнаруживаем в стихах Игоря (Мандельштам, Пастернак, Цветаева, Данте, Гомер, Спиноза...). Обычного, гиперактивного, увлекающегося ребёнка за книжку и вовсе не усадишь. Но только не Игоря Поглазова. С тех пор как в его кровь попала капля поэзии, он заболел чтением и писанием стихов. В юности все кому-то подражают, осознанно или обчитавшись кого-то одного, особенно понравившегося. Но стих Поглазова спешил стать собой, хотя проглядывала в нём иногда и есенинская дерзость («выпей водочки со мной»), и мандельштамовская элегичность («Петербург»), и даже цветаевская надрывная сбивчивость. Недетский взгляд на дружбу, любовь, Родину, бережное отношение к родному языку, совершенно неформатная для школьников того времени проза — всё есть в этой вроде бы небольшой книге. И снова, как и в случае с Борисом Рыжим, хочется сказать о том, что жизнь, которую любят и отображают поэты, не всегда относится к ним взаимно.
Время, застёгнутое на все пуговицы, граница 70-ых и 80-ых, на которое пришлась жизнь Игоря Поглазова, было временем одиночек. Ещё не расцвели буйным цветом в каждой районной библиотеке свои литературные объединения. Ещё хорошую книгу можно было купить только из-под прилавка или получить за добросовестно собранную макулатуру. Ещё трудно было искать своих, тех, кто разделит никем не понятую страсть к Слову. При всей своей общительности и постоянной окружённости людьми, Игорь был одинок.
Он слишком быстро перерос. Свой возраст, школьную обязаловку, все возможные рамки и форматы, своё время и себя прежнего. Его последние стихи были непоправимо взрослыми, будто бы авансом забирающими всё то будущее, которого — он это знал — у него не будет.
Эта книга, как уже было сказано, включает в себя биографию Игоря, написанную его мамой. В ней нет ожидаемого надрыва и идеализации сына-вундеркинда, потому что он не был таковым. Лишь факты, окрашенные приметами времени и пространства, лишь рассказ о родном человеке, обычном минском подростке, который ничего не боялся и не умел плакать. Его слезами были стихи, ставшие немым укором тем, кто не хочет разглядеть в обычном — целый мир. А он прожил свою короткую, как прочерк, жизнь, ни о чём не жалея. Ведь мечты сбываются. Даже если не сразу.
- ...Покажи мне тугие строки,
- Несусветной грозы раскат.
- И продли мои грешные сроки,
- Чтобы смог оглянуться назад
- (Декабрь 1980)
Взрыватель тишины. Макс Батурин

А теперь представим себе карту Советского Союза и сделаем взглядом большой скачок из Минска — в Сибирь, всё ещё загадочную и до сих пор не открывшуюся, таящую в себе много сюрпризов. Для города Томска, где литературная жизнь никогда не была громкой, творчество Макса Батурина, зазвучавшее в преддверии 90-ых, стало настоящим откровением. За 35 лет поэтических поисков и экспериментов мы навидались всякого. Но тогда его поэзия была сродни тому, как если бы в три часа ночи у вас под окнами раздался скрежет электрогитары, усиленный колонками.
Всё это легко представить, читая предисловие Андрея Филимонова внесен в реестр иностранных агентов к книге «Гений офигений» (Москва, «Выргород», 2024, сост. Б. Кутенков), вышедшей в серии «Поэты антологии ''Уйти. Остаться. Жить"». В этой книге немало разнообразных по длине стихов. Но среди тяжеловесных, как осенние гроздья винограда, циклов и попыток свободного стиха есть одностишие. Просто строка, написанная капсом: «ТЫ ВСЁ-ТАКИ ВЗОРВЁШЬСЯ, ТИШИНА!». Кажется, это и есть то, для чего был и писал Макс Батурин. Он пришёл, чтобы всколыхнуть тихое болотце провинциального литпроцесса и культуры в целом, где уже достаточно вяло бодались официальная идеология и зарождающиеся молодёжные течения — грунтовые воды ещё запретного русского рока.
Особенность сибирской рок-поэзии в том, что она тесно связана с народным фольклором, низовой культурой. Эта поэзия играет словом, нашёптывает каламбуры и такие присловья, от которых краснеют «правильные» девочки и партийные работники. Макс Батурин хорошо это осознавал, потому и использовал смеховую составляющую народной культуры. И если смех, по мнению древних, отпугивает злых духов, так тому и быть.
Макс Батурин выбрал профессию историка, он знал многое о жизни и устройстве государств, участвовал в археологических раскопках, хорошо разбирался и в истории литературы, подолгу переписывая в архивах стихи близких по духу поэтов, о которых мало кому было известно. Мог анализировать их стихи при почти полном отсутствии информации и литературоведческой базы знаний (что было доказано его альманахом «А la поватые страницы»). В своей собственной поэзии он был немножко панком, немножко футуристом, немножко обэриутом, но всегда, по мнению Ольги Аникиной, чувствовал ту грань, за которую не стоит заступать, и, лишь попробовав чужое слово на зуб, умел сказать своё и остаться собой. Он часто пробовал, впитывал, перерабатывал, играл словами и звуками («За штоф купил, за то и продаю...»), откапывая в них, как археолог, внезапные новые смыслы.

Был ли Батурин знаком с Борисом Рыжим? Думается, что, по крайней мере, они слышали друг о друге в это уже вполне медийное время скандальных ток-шоу, громких перформансов и музыкальных рок-альбомов, о которых шелестели газеты.
В жизни «гения офигений» тоже была некая раздвоенность. С одной стороны, внешность решившего, что не будет взрослеть до конца, ребёнка-интеллектуала, в очках на пол-лица и с полными подвижными губами, готовыми вытянуться то ли в поцелуй, то ли в усмешку, сходство с Миком Джаггером, кумиром рождённых в 60-ые, пересмешничество и эпатаж. С другой стороны — прячущаяся за этим фасадом трагедия. Ольга Аникина в завершающем книгу эссе пытается решить для себя вопрос, сколько ипостасей на самом деле содержит в себе такое яркое, отчаянное творчество Макса Батурина. Выходит, что их как минимум три. Там, где поэт сталкивается вплотную с категориями любви и смерти, где подступает безотчётный страх за себя и за близких, Макс становится тонким лириком с густо замешанной образностью и метафорикой (стихи, посвящённые жене Светке, детям, Тане Олеар). Или вовсе остаётся оголённым проводом, без прекрас, без «предподвыподверта», почти без рифм и размеров, сообщающим о своих чувствах и состояниях («Стихи к Анжеле»). И поразительно то, что ни одно из этих «агрегатных состояний» не являлось маской, чем-то напускным и поверхностным. Он был «три в одном».
Но впрячь в одну повозку чудище «дикого капитализма» (в условиях которого пришлось научиться сочинять рекламные слоганы и вести бизнес) и «трепетную лань» поэзии у него не получилось, что, очевидно, и привело к разочарованию во всём как-то сразу. Перформансы и стихи с громкими намёками уже не были чем-то скандальным, русский рок стремительно коммерциализировался, а литературу словно перестали замечать вовсе. Видимо, тот самый страх всё-таки догнал поэта.
- Храни меня, Господь,
- В сухом прохладном месте
- (1994)
Странное раздвоенное время сохранило его для нас. На память о себе.