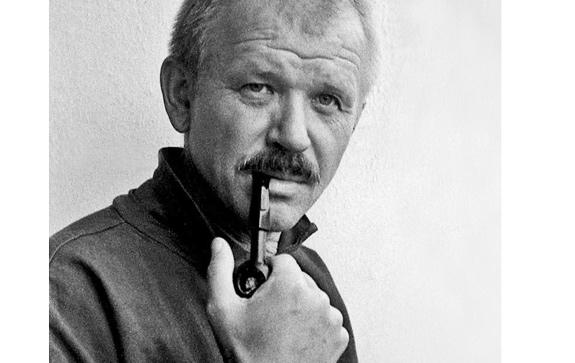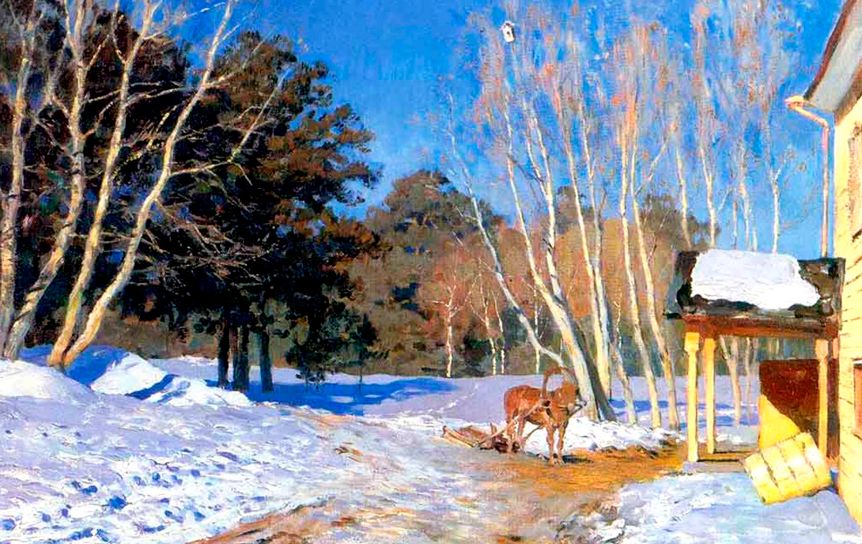Текст: Дмитрий Шеваров
Фото: Геннадий Русаков (1988). Г. Елина/ru.wikipedia.org

Геннадий в переводе с греческого: «благородного происхождения». И надо же было именно этому имени стать популярным в эпоху, для которой благородное происхождение было приговором, позорной меткой. В 1930-х на славу русской поэзии появились на свет три Гены: Геннадий Шпаликов, Геннадий Айги и Геннадий Русаков.
Из них Русаков, пожалуй, наименее известен, хотя и был лауреатом громких премий (в том числе премии «Поэт» в 2014 году). «Самым известным из неизвестных русских поэтов» называют его критики. Он и сам себя считает «человеком-невидимкой» в литературе.
Русаков родился 15 августа 1938 года в семье деревенских учителей в селе Новогольское Полянского района Воронежской области.
Большие ветры ходят по земле.
Стареют звёзды и мелеют реки.
И в никому неведомом селе
душа произрастает в человеке.
Вот так однажды проросла во мне —
и я кричал, зажав руками рану, —
в пустом дому и с ним наедине,
страшась того, кем я отныне стану...
В войну осиротел, беспризорничал. В 1946-м его нашла бабушка в детприемнике, но своего дома у нее не было, и они побирались по деревням. «Подавали, как правило, самые бедные...»
В двенадцать лет написал письмо Сталину: «Я Русаков Геннадий. Мой отец, командир роты автоматчиков, погиб под Ленинградом. Я хочу идти по его стопам и мечтаю поступить в суворовское училище...»
По распоряжению вождя Гена был зачислен в Куйбышевское суворовское училище - без всяких экзаменов. Учился на газетном отделении военно-политического училища во Львове.
Воспользовавшись хрущевским сокращением армии, уволился на гражданку и поступил в Литературный институт, где в семинаре Льва Ошанина подружился с Василием Беловым. Вскоре их пути разошлись. Белов вернулся в Вологду, чтобы стать знаменитым на весь мир писателем северной деревни. А Русаков оставил стихи, окончил иняз и оказался в Нью-Йорке - переводчиком-синхронистом в Секретариате ООН.

Когда почти полвека спустя Геннадий Русаков приехал в Вологду (по приглашению проекта «Открытая трибуна»), Василий Белов, уже больной и почти беспомощный, пришел на вечер однокурсника в областную библиотеку. Русаков вспоминает: «И тут я увидел Белова... Глядя, как он осторожно, словно ощупывая ногой землю, идет по скользкому полу, я почувствовал стыд. Стыд за то, что из-за меня ему приходится так сосредоточенно одолевать трудно дающееся ему пространство. И радость, что он все-таки пришел... Я шагнул навстречу:
- Спасибо, что пришел, Вася...»
Русаков работал и в Африке, и в Америке, и в Европе, но заграничная служба, столь завидная в ту пору для многих, прошла сквозь него, не оставив следа. В душе он оставался тем же послевоенным шкетом, шальным пацаном, который с письмом Сталину в кармане запрыгнул на подножку трамвая удачи. И как это ни парадоксально, заграница вернула Русакова русской поэзии, от ностальгии он вновь стал писать стихи.
Все мои дожди отморосили.
Все ветра споткнулись на бегу.
Я умею только о России.
Ничего другого не могу...
Когда я читаю Геннадия Русакова, то всегда вспоминаю то определение поэзии, которое дала Новелла Матвеева: «Поэзия есть область боли».
«Россия не любит своих стариков...»
Из размышлений Геннадия Русакова о жизни и поэзии.
Я тоже читатель, лечусь поэзией. Я читаю стихи, которые мне близки, и я ухожу... не скажу, что окрыленным, но - освеженным, что-то во мне утишается, и я верю, что мир не так плох, как мне казалось до этого. Поэзия врачует... Поэтому люди не прекратят писать стихи и не перестанут их читать... У нас, в российской поэзии, сострадание и сочувствие - ее основной элемент... Это наша самая сильная сторона - наши искренность, страстность, запальчивость...
* * *

Поэзия в Америке не играет никакой роли и не занимает никакого места в жизни обыкновенного американца. Она попросту не относится к числу его ценностей. Влияние литературы на жизнь присуще только России. И я горжусь, что живу в стране, где от чтения стихов у людей могут наворачиваться слезы на глаза.
* * *
Россия не любит своих стариков. И не уважает их. Нам на каждом шагу дают понять, что мы лишние рты. “И когда же вы только перемрете!” — вырвалось однажды при мне у дамы в собесе, ведавшей раздачей всяческих благ. Скоро, очень скоро. Опыт уже есть: в сталинские времена вывели как тараканов, уморили забвением и небреженьем целое поколенье солдат-инвалидов, ценой своей жизни, своих увечий спасших страну. Я помню их, раскатывавших по вагонам на самодельных колясках, этих танкистов с обрубками ног и страшными шрамами. Помню их, тачавших в инвалидных артелях сапоги для тех, кто может их носить. И помню, как они вдруг исчезли с улиц, с вокзалов, из артелей. Родине стало стыдно за них, портящих нам жизнь самим напоминанием о себе, — и их не стало.
* * *
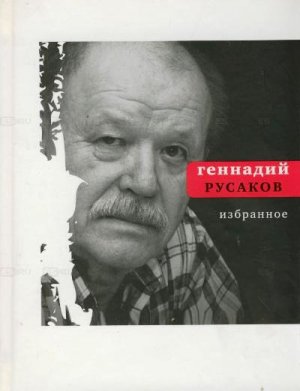
Я разговаривал с итальянскими стариками. Государство их тоже не балует крутыми пенсиями. Но у них есть спокойная убежденность в том, что достойная пенсия — это их заработанное своим горбом право, а не подачка, которую тебе, скрепя сердце, дает «щедрое» государство. Притом может отобрать под идиотским предлогом или без оного, урезать, обставить нелепыми условиями и запретами. У нас слово «пенсионер» стало синонимом человека, вынужденного жить крохами со стола общества. Если в недавние времена это еще сходило с рук из-за лозунга «все так живут», то сейчас нищенство стариков на фоне яхт и усадеб, которые приобретают Иваны, не помнящие родства, постыдно. Я уверен, что Россия еще долго не простит своим правителям глумления над стариками.
(Из бесед Геннадия Русакова с Натальей Игруновой и Натальей Серовой, а также из статьи «Страна-утешение»).
Из стихов Геннадия Русакова
Лейтенантской веселой походкой
и подковками тонко звеня,
я ходил по земле моей кроткой,
благодарно носившей меня.
Рыбы плавали, птицы летали.
Ах, деревья и травы цвели.
Невозможного мира детали
разбегались до края земли.
А в мордовской глуши Мелекесса*
я и сам ненароком летал:
что во мне настоящего веса?
Лишь душа да подковок металл.
И хорошая девушка Люда
мне махала рукой из окна —
из судьбы, из незнанья, оттуда,
где поныне все машет она.
*Так до 1972 года назывался город Димитровград.
* * *
Я думал хорошие мысли,
которым смеялся не вслух.
Но вдруг георгины провисли
и пасмурно сделалось вдруг.
И сверху захлюпало что-то,
как будто лилось со стола:
на небе, похоже, работа,
уборка какая-то шла:
громоздкую мебель таскали,
для танцев готовя полы,
по радио что-то искали,
посуду несли на столы.
Мне всё в этом было понятно,
я всё представлял в мелочах:
как ангелы, споря приятно,
втроём разжигают очаг.
Как горницей ходит Хозяин
и смотрит в меню-кондуит.
А каждый подсвечник надраен.
И манна в кастрюле стоит.
* * *
Накрыты пластиком копёшки.
Денёк с утра плаксив и сер.
Глядят в окно коты и кошки...
Всё, как тогда, в СССР.
По сути, жизнь не изменилась
в масштабе местного села:
мы так же отданы на милость
метафизического зла —
дождей, сезонов, бормотухи,
горластых жён, бухих мужей.
К тому же снова ходят слухи
что ожидается хужей.
А в остальном всё, как и прежде —
всё, как при батюшке-царе.
Ну, есть различия в одежде..
И век сменился на дворе.
* * *
Пойду подышать на природу,
чтоб сделать природе плезир:
в природе в такую погоду
богатый растительный мир.
Среди полевых насекомых —
одной из опор бытия —
я встречу друзей и знакомых,
гуляющих так же, как я.
Они отдыхают роями,
и все в них друг другу свои.
Я прежде дружил с муравьями,
но вечно в делах муравьи.
А мне бы кого-то попроще,
чтоб тоже ходил и дышал,
не претендовал на жилплощадь...
Дышал бы и жить не мешал.
* * *
Машет бог рукой от палисада
на своих высоких небесах.
Дождь стоит посередине сада,
молодой, в сиреневых усах.
Крот ладошкой складывает влагу
и на части делит про запас…
Дай мне, боже, важную бумагу,
что ничто не кончится сейчас,
что пройдёт по мокрой глине кошка,
лапы отрясая на ходу.
И повиснет солнечная крошка
в навсегда увиденном саду.
* * *
По большой - от моря и до моря,
по земле немереных кровей
ходит горе, плясом пляшет горе
и зовёт любимых сыновей.
Будет срок подсчитывать обиды,
воздавать, кому не воздают.
Но ещё не скоро инвалиды
по вагонам песни допоют.
Мёртвым - слава. Вспомним и заплачем.
А живые - выжил, так живи.
Мы вам по три пенсии назначим,
ветераны спаса-на-крови!
Завтра - всё, чего б ни захотели!
Нынче - счёт не ранам, а трудам.
И поют сапожные артели
по российским малым городам.
И летит - от моря и до моря,
упадает, ломит напролом
птица-память, клича птицу-горе…
И меня касается крылом.
* * *
Низкое солнце садится.
Долгие тени дрожат.
Может, ещё пригодится,
как эти тени лежат?
Может, в другом измеренье
снова уколет укол…
И померещится зренью:
солнце, теней частокол.
Женщина, тихое чудо,
смотрит на пойму, лучась.
Сорок созвездий отсюда.
Тысячи лет до сейчас.
Счастье, надежда, удача.
Кто-то на миг обомрёт.
Глянет, без повода плача.
Жаркие щёки утрёт.
* * *
Все мои дожди отморосили.
Все ветра споткнулись на бегу.
Я умею только о России.
Ничего другого не могу.
Что имел - того не захотела.
Что хотел - того не отдала.
По двору соломой пролетела.
На бугре рябиной отцвела.
Расстояний медленная мука.
Утешенья тёплая рука.
Расставанье. Родина. Разлука.
Далека ты, мати, далека.
Из новых стихов
Я б хотел бродить по свету,
где придётся ночевать.
Образцовую анкету
пункт за пунктом забывать.
Я хотел бы не бояться
вертухаев и вождей,
заграничных провокаций,
неулыбчивых людей.
Я хотел бы стать богатым -
хоть немного, хоть чуть-чуть,
не считать долги-зарплаты
и слегка передохнуть.
Я б хотел спросить у Бога,
где всё это получу.
Я ведь, в сущности, немного
к скромной пенсии хочу.