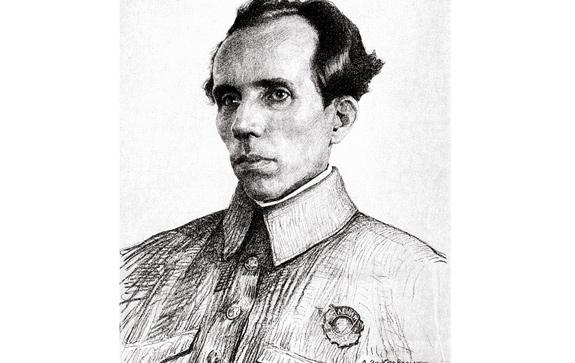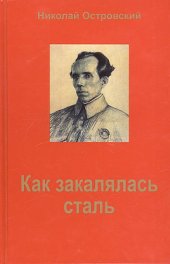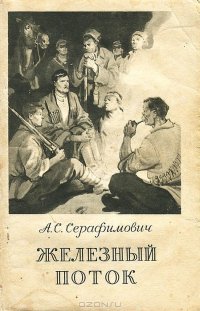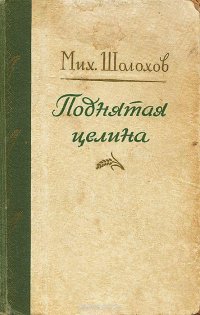Текст: Михаил Визель/ГодЛитературы.РФ
Фото: А. Яр-Кравченко, портрет Н. Островского, 1935 г./museum.ru
Короткая — 32 года — биография Николая Островского, успевшая вместить трудное детство, подростковое участие в подпольной борьбе, боевую военную службу, работу партийным функционером и тяжелую болезнь, с 25-летнего возраста приковавшую его к постели и постепенно лишившую зрения, в любую эпоху могла бы послужить прекрасной основой для романтического мифа. Но на переломе эпох она стала чем-то бóльшим, чем индивидуальный миф о ярком художнике, силою воли и таланта преодолевающем тяжелые удары судьбы.
Личный опыт писателя идеально сошелся с общественным запросом: создать красивую историю о том, как из разнородного и зачастую негодного «человеческого материала» выковывается «новый человек» - участник и сотворец нового социалистического общества.
Причем описывать этот сложный диалектический процесс следовало лишь одним способом, который получил название «социалистический реализм» и резко противопоставлялся «упадочническому», крайне индивидуалистическому модернизму начала века.
Насмешка истории, однако, состоит в том, что огромный интерес к «новому человеку», действующему на фоне и от имени народных масс, проявился как раз во множестве текстов европейского авангарда. Чтобы не углубляться в разбор двольно неоднозначных сочинений Ницше, в частности, его «Заратустры», достаточно вспомнить «Футуриста Мафарку» Филиппо Томмазо Маринетти (1909), в котором итоговым, самым трудным и грандиозным подвигом африканского царя Мафарки оказывается рождение-создание сына Газурмаха — нового крылатого человека, способного оторваться не только от земли, но и от ограничений, накладываемых «ветхой плотью», в частности, деторождением. Кстати, русское издание «Футуриста Мафарки» появилось довольно быстро — в 1916 году, в переводе поэта-имажиниста Вадима Шершеневича... и не переиздавалось ровно сто лет, до декабря 2016 года, что свидетельствует о возрождении интереса к футуризму.
О необходимости преодолеть эту самую «ветхую плоть» и заключить с Богом «Третий завет» много писали и напряженно размышляли русские религиозные философы начала века — Бердяев, Соловьев, Мережковский. А самые радикальные русские авангардисты, такие, как Хлебников, Шагал, Малевич и Эль Лисицкий, оказались поначалу горячими сторонниками коммунистической революции, небезосновательно видя в большевиках таких же леваков, как и они сами, только в социальном, а не в художественном поле. «Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня (и для других москвичей-футуристов) не было. Моя революция. Пошел в Смольный. Работал. Все, что приходилось», — лаконично написал Маяковский в автобиографии 1928 года.
Неудивительно, что советская литература своего классического, то есть сталинского, периода полна настоящих эпосов, где люди уподоблялись железным заготовкам, из которых коммунистическая идея, как молот, выковывает новых людей.
«Так философствуют молотом», — писал Ницше. «Так молотят философией!» — ответили полвека спустя его отдаленные потомки.
Достаточно вспомнить названия основополагающих произведений социалистического реализма. «Железный
поток» Серафимовича (1924) — роман-хроника о походе Таманской армии летом 1918-го, в ходе которого разрозненные и деморализованные солдаты превращаются в единое сверхсущество, не хуже футуристического Газурмаха; «Как закалялась сталь» (1932) — история превращения способного, но недисциплинированного юноши в безупречного «солдата партии», фактически советское житие; «Поднятая целина» Михаила Шолохова (1932, 1959) — та же метафора преобразования дикого в цивилизованное, но в деревне — хотя речь в романе идет отнюдь не о дикарях, впервые увидевших плуг, а о казаках со сложившимся за много сотен лет земледельческим укладом. И наконец еще одно говорящее название — «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого (1946): документальная книга о летчике, с перебитыми ногами много дней ползшем (зимой, в снегу!) через линию фронта и сумевшем вернуться к боевым полетам, несмотря на ампутацию обеих ног ниже колена: он пристегивал протезы к педалям специальными
пружинящими хомутиками, позволяющими чувствовать их ход.
Таким образом, слияние человека с машиной, превращение его в киборга происходит уже буквально.
Хотя, разумеется, необходимо подчеркнуть, что Борис Полевой такого намерения не имел — он искренне восхищался мужественным летчиком и сумел адекватно передать свое восхищение в книге. Но сама матрица «социалистического реализма» подтолкнула его к этому. Как ровно сорокá годами ранее та же самая
авангардистская матрица подтолкнула Максима Горького в романе «Мать» (1906) к тому, что описание самых нежных, самых интимных человеческих отношений, отношений матери и сына, заменилось описанием превращения простой «темной» женщины в «нового человека», борца и революционера.
Зато совсем не столь наивен был Алексей Толстой, когда вольно перерабатывал «Приключения Пиноккио» в «Золотой ключик» (1936). Под его талантливым и чутким к веяниям времени пером длиннейшая и, надо признать, довольно занудная морализаторская сказка Коллоди превратилась в брызжущую ядовитым свифтовским остроумием аллегорию.
В сказочных героях явственно угадывались бывшие друзья «красного графа» по богемному предреволюционному Петербургу и эмигрантскому Берлину.

А в самóм Буратино — деревянном мальчишке, так и не научившемся читать, но благодаря природной сметливости, быстрым рефлексам и невероятной целеустремленности ставшем лидером своего сообщества и звездой кукольного театра, можно в травестированном виде узнать все того же «настоящего человека», ползущего на негнущихся ногах в светлое будущее.
Героический период не может длиться долго; после «оттепели» безупречные герои советской литературы тоже в прямом смысле слова оттаяли, как тают в марте ледяные статуи: у них появились противоречия и, что важнее, рефлексии.
«Настоящие человеки» превратились в настоящих людей, как коллодиевский Пиноккио из деревянного превратился в живого мальчика из плоти и крови (в отличие от Буратино, так и оставшегося деревянным). Но герои Николая Островского, Михаила Шолохова, Александра Серафимовича, Бориса Полевого и прочих остаются непоколебимы — как пример и предупреждение.
Материал написан по заказу проекта Russia Beyond The Headlines и опубликован в сокращении по-английски.