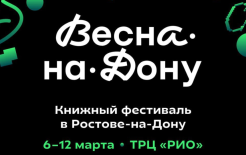Литература – медиа с очень длинным запасом хода, а большие книги имеют долгое эхо. В очередной раз мы в этом убедились, получив из Минска предложение опубликовать рецензию на «Собак Европы» – огромный роман Ольгерда Бахаревича, написанный им изначально по-белорусски и вошедший в прошлом году в Короткий список российской премии «Большая книга». Но вообще-то правильнее было бы назвать присланный нам текст «рецензией на рецензию», потому что непосредственным поводом к ее написанию стал обзор Андрея Мягкова, опубликованный на нашем сайте 26 сентября 2019 года.
Предлагаем этот обзор нашим читателям. Во-первых, любопытно же, как это сложное и неоднозначное произведение, посвященное современной Беларуси, воспринимается «изнутри». А во-вторых – большие книги имеют долгое эхо.
Текст: Елена Лепишева, к.ф.н., литературный критик, преподаватель БГУ (Минск)
Я благодарна Андрею Мягкову за рецензию, в которой были обозначены «слабые места» книги «Собаки Европы»: многословие, нечеткая композиция, огромный объем. Это стимул к обсуждению, а значит, шаг к популяризации белорусской литературы.
Но после прочтения рецензии у меня осталось такое чувство, какое было после экзамена по философии. Чтобы его сдать, надо было взять в библиотеке книгу «Три мужика». Почему такое название? Потому что на обложке Платон, Сократ, Аристотель. Вроде название правильное, но как-то очень уж упрощает.
Так и здесь. Андрей Мягков внимательно прочитал роман, но его рецензию романа неплохо было бы предварить экскурсом в белорусскую литературу. Зачем, если речь о номинанте на российскую премию? Чтобы понять, почему это пишется именно в Беларуси и что это дает литературе мировой.
Наша белорусская литература ‒ это terra incognita для читателя не только российского, но и белорусского. И нечего стыдиться за нее как за литературу с имиджем «малой». Она в силу объективных причин (отсутствие госсуверенитета, нелегитимный статус белорусского языка) сформировалась лишь в начале ХХ века, ориентировалась на периферию социума – немногочисленных носителей беларускай мовы 1. Поэтому вопросы, ее интересовавшие, касались национальной самоидентичности, отягощенной положением в межкультурном пограничье между Россией и Европой.
И поэтому белорусская литература оказалась крайне чуткой к маргинальному мироощущению. Да, оно в целом характерно для рубежа ХХ–ХХI веков и подробно описано в литературе экзистенциальной ориентации – от Достоевского, Сартра до военной и лагерной прозы. Просто в белорусской версии эта маргинальность достигла предела за счет неустойчивой национальной идентичности. И вот создаются причудливые художественные миры («Потерянное счастье» В. Гигевича, «Если присмотреться – Марс синий» З. Вишнева), моделируются искусственные языки («Мова» В. Мартиновича). А как еще отражать современные реалии, если беларуская мова не звучит на минских улицах (и вообще на улицах: она бытует в очагах культуры: гуманитарных вузах, театрах и т.д.)?
Писать по-белорусски с реалистической подачей – это солгать читателю. Прежде всего в языке.
Итак, белорусская литература ищет способы передать ощущение «топи» реальности-ирреальности, «раздробленное» сознание/подсознание. Создается она в двойственном пространстве, где есть ангажированная «советская Белоруссия» и «Беларусь аутентичная» ‒ миф национально ориентированного «меньшинства». Было бы странно описывать все это «извне», объективируя алогичный мир. Лучше сделать его частью нарратива. Тогда и сюжет «распадется», и повествователь заблудится в собственных «пост-пост» и «мега-мега», и стилевые извращения полезут – от эротических метафор до «примитивных» стихов, какие можно встретить у капитана Лебядкина Достоевского, Хармса, в городском фольклоре.
Этос 768-страничного романа 2 я рискну передать с помощью одной сцены
«Молчун отшатнулся от забора и побежал. Нет, такой скорости, как вчера, когда он гнался за паном Каковским по тëмной улице, он развить уже не мог. Но это было совсем не обязательно. За ним никто не гнался – кроме голосов двух чудовищ, что убивали друг друга во дворе Юзиковой хаты. Убивали и никак не могли убить. Кроме их лиц, таких живых и таких человеческих. Кроме этого дня, который кричал вслед Молчуну, чтобы он вернулся, выкинул всю блажь из головы и занял чью-нибудь сторону. Сторону царства-государства, которое билось за свои кнуты. Или тëмную сторону, которая билась за свои сказки да байки» (с. 251) 3.
А после Молчун, подобно Нильсу Хольгерсону, улетает из Белых Рос, преодолевая трагическую «маргинальность» своего положения между двух враждебных миров. Зашоренность сознания не дает ему встать в ряд с такими героями исторического перепутья, как доктор Живаго или Григорий Мелихов. Но экзистенциальная «периферия» налицо. В белорусском условно-фантастическом варианте.
В моем понимании, «Собаки Европы» ‒ это роман о свободе. Об этом говорит пластичность самой формы, прежде всего языка. В авторском переводе русский литературный язык с оттенком «добротной европейской прозы» (Е. Абдуллаев) 4 сочетается с конлангом бальбута, русско-белорусским просторечием трасянка, беларускай мовай, английскими, немецкими словами, а лаконичная проза ‒ со стихами. Но это и свобода национальная, проблематичная в силу ментальности белорусов ‒ «странного народа, прозрачного, неуловимого» (с. 10). А еще ‒ геополитическая (заявленная в названии), социальная, выстроенная на противостоянии «я – das Man» (Хайдеггер), чувственная в силу мотивов эротических. Но прежде всего ‒ свобода экзистенциальная, поскольку каждый герой поставлен в ситуацию выбора между освобождением «внутренним» (в творчестве, языке, культуре) и добровольным подчинением (тоталитарному государству, умозрительной идее, Богу). Именно поэтому Новый Райх в антиутопических частях книги стал для меня не конкретным пространством, но подсознательным согласием на несвободу, кризисом в головах.
Не могу согласиться, что этот message «тонет» в запутанном сюжете. 6 частей романа ‒ это 6 историй о свободе/несвободе с точками пересечения. Например, проекция судеб Молчуна (Ч. II) и последнего белорусского поэта (Ч. VI) на скандинавскую сказку о Нильсе Хольгерсоне позволяет предположить, что это одно и то же лицо. Есть и другие «общие места»: пространственно-временные связи (город М.-2015 (Ч. I) ‒ Белые Росы-2049 (Ч. II) ‒ Лига Наций-2050 (Ч. VI ), символы-лейтмотивы (книга, перо, камень etc.). Все это знаки, оставленные внимательному читателю, который может выстроить сюжет в логической последовательности, а может просто наслаждаться его хитросплетением, смысловым многоточием, принципиальными для автора. Это установка на «диалог» по Бахтину, со-творчество.
Отсюда ‒ и доверительная интонация начала романа. В Ч. I речь идет о психологическом «подполье» повествователя Олега Олеговича. Я не случайно вспоминаю о Достоевском: герой Бахаревича «проговаривается». За его снобизмом и оппозиционностью ‒ тайное восхищение властью в эпизодах детства, допроса. Сбивчивый, местами истеричный, намеренно многословный нарратив говорит о «раздвоенности» сознания, метании между несогласием и готовностью подчиниться. Так создается психологический портрет человека из «толпы» с бременем несвободы коллективной, национальной, что делает его «внутренние» противоречия в принципе неразрешимыми. Неготовность (неспособность?) принять свободу станет краеугольным камнем, скрепляющим сюжетный остов романа.
Вот Беларусь «реальная» (Ч. I). Но так ли она реальна? Скорее, это пространство «двойственное», тоталитарное, где сочетаются конформистская жизнь большинства и «темные щели между явью и сном» людей «легких, как бумага», инакомыслие которых пресекается (с. 67, 57). Именно в таких условиях мог возникнуть искусственный язык бальбута, основанный «на разнообразии, свободе и поэзии» (с. 36), по сути, творческое сопротивление прессингу социума. Вопрос в том, насколько это сопротивление эффективно?

Последующие части романа убеждают – не очень. В «антиутопической» Ч. II. в традициях поэтики жанра (Замятин, Платонов, Хаксли, Оруэлл и др.) прогнозируется общество-2049: Новый Российский Райх с окраиной Белые Росы (не столько социальной, сколько экзистенциальной периферией в силу «суженного» сознания его обитателей ‒ людей-оборотней без памяти о прошлом и родного языка). В приведенном выше фрагменте мы видели, что появление «чужака» ‒ Стефки, использующей бальбуту как тайный язык, только усугубляет ощущение несвободы и «маргинальности».
В Ч. III речь идет о несвободе от диктатуры «идеи», в которую вырождается мечта о Беларуси «настоящей». Кривья ‒ это «антидом», сконструированный по умозрительным лекалам и потому нежизнеспособный. Абсурдность ситуации подчеркивает повествование от лица бабки Бенигны, для которой и Кривья, и реальный Минск ‒ часть «андертальского леса».
Иллюзия локальности несвободы в постсоветском пространстве окончательно рушится в Ч. VI. Здесь ощущение «периферии» возникает уже в европейской Лиге Наций-2050. И опять мы видим одичание духовное и физическое: «дистрофические человекообразные» европейцы напоминают жителей Белых Рос. Названа и причина ‒ смерть культуры. Но даже в этом пространстве несвободы, метафорой которой становится собачий лай, зарождается потребность во «внутреннем» освобождении Терезиуса Скимы. Его трансгрессия ‒ это обретение самоидентичности, что можно прочесть и как приобщение к национальным истокам.
Неужели этот сюжетный лабиринт не поддается дешифровке? Читаем же «Свечку» Валерия Залотухи и «Петровых в гриппе и в вокруг него» Алексея Сальникова. Как до этого ‒ «Пирамиду» Леонова, Сашу Соколова, Пелевина. Или «Имя розы» Умберто Эко.
Сравнение с этим признанным шедевром постмодернизма, на который я набрела, требует сказать пару слов о стиле Бахаревича. Можно, конечно, говорить о его «старообрядчестве» (= «постмодернизме»), но не совсем в понимании Андрея Мягкова. Постмодернистских элементов в романе немного, и они кажутся формальными приемами. Фрагмент «нас кто-то написал» единичен, а прием «текст в тексте» (о сгоревшем компьютере), как и встречи с «реальным» Бахаревичем и его женой, поэтессой и переводчицей Юлей Тимофеевой (а точнее, с их литературными масками), корректнее назвать металитературной рефлексией. Это взгляд литературы на саму себя в другой перспективе, например, с точки зрения социальной иерархии. Уязвимость позиции литературы (и шире – культуры духовной, национальной) оставляет чувство тревоги, которое в Ч. VI выльется в антропологический приговор. Не очень все это вяжется с тотальной иронией постмодернизма.
Но о «старообрядчестве» можно говорить как о реактуализации стиля «плетение словес» (или о «необарокко»). Здесь витийство фразы передает неустойчивость современного мира, который все время ускользает от целостной фиксации и являет себя в калейдоскопическом разнообразии – в слове.
«Bu samoje!» («Быть свободным!») ‒ такой автограф оставил на первой странице моего экземпляра автор. Это не только призыв к читателю, но и credo, личное и творческое. А еще – свобода для интерпретаторов, каждый из которых имеет право на собственное прочтение. Главное, чтобы оно исходило от текста и знания контекста, в том числе и национального.
Но и взгляд с позиции российской литературы, и взгляд из нашего белорусского «не-центра» добавляет что-то новое в понимание этого сложного и монументального произведения. «Собаки Европы» ‒ для читателя, готового к свободному восприятию текста. И мира, в котором можно оставаться собой даже в антиковидной маске.
1В начале 2009 г. ЮНЕСКО внесла белорусский язык в список языков, которым грозит исчезновение. Согласно официальной статистике 2011 г. 62% белорусов не интересуется отечественной литературой, а 13% совсем не умеют читать по-белорусски (https://gomel.today/rus/news/belarus/17988/).
2900 страниц, которые указываются во многих рецензиях, ‒ это белорусский вариант (изд. «Логвінаў», 2017). Хотя и 768 многовато, скажем честно.
3Здесь и далее текст цитируется по изданию: Бахаревич О. Собаки Европы. – М.: Время, 2020 с указанием в скобках номера страницы.
4Слом иерархий: блогеры обживают реал // Дружба народов. – 2020. - № 1, 2.