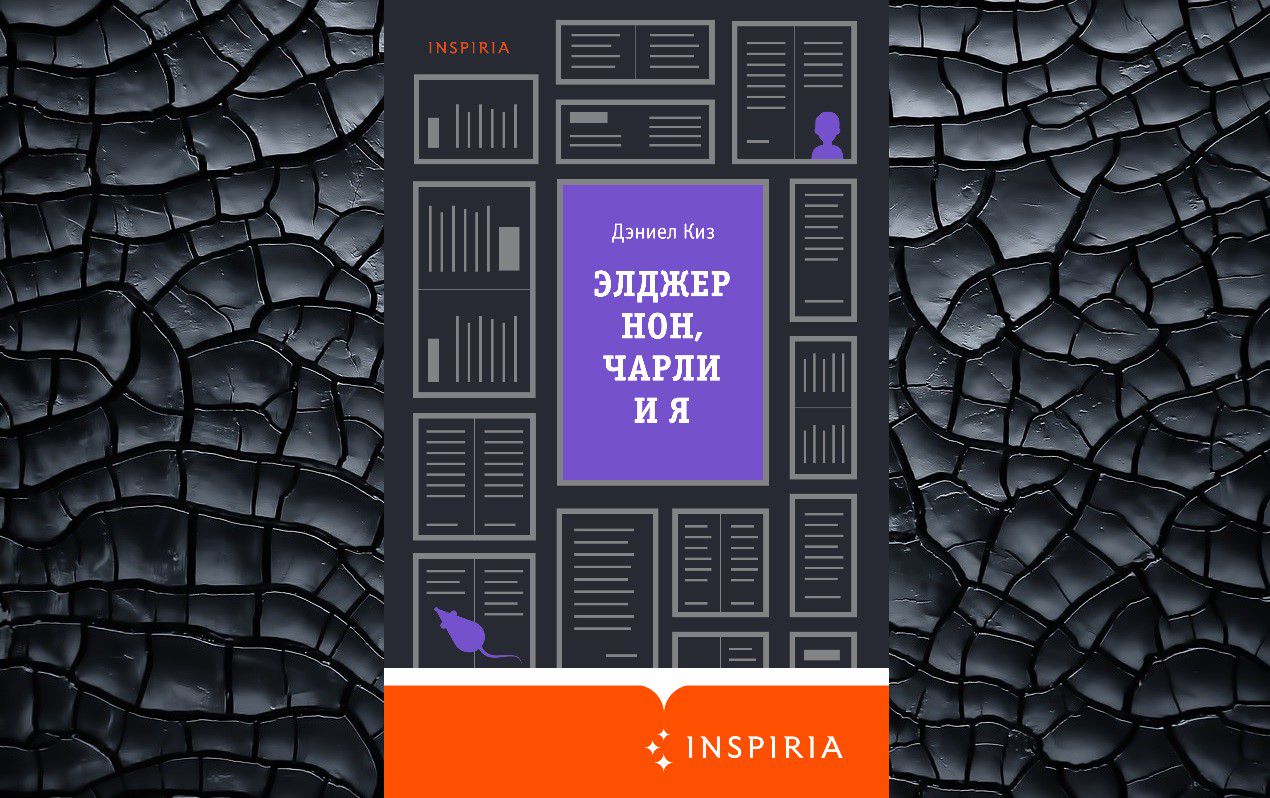Текст: Андрей Мягков
В январе в издательстве INSPIRIA выходит книга Дэниела Киза «Элджернон, Чарли и я», в которой писатель лично рассказывает о своем – тернистом, как это заведено – творческом пути, и ожидаемо много страниц уделяет истории создания своего дебютного бестселлера: «Цветов для Элджернона». Книга еще не издавалась на русском, так что для всех поклонников американского фантаста это отличный повод узнать, из какого биографического «сора» выросла знаменитая история о стремительно поумневшем - а прежде умственно отсталом - уборщике Чарли, и прошедшем тот же путь мышонке Элджерноне. Непонимание родителей, учеба в медицинском университете, служба на флоте, работа психологом и преподавателем - все это в разных пропорциях, но неизменно нашло отражение в литературном дебюте Киза.
Однако экскурсия по писательской кухне занимает лишь первую половину книги - следом за ней притаился новый перевод «Цветов...», выполненный Юлией Фокиной; ранее Юлия уже познакомила с русским языком другой роман Киза, «Пятую Салли», а кроме того, отметилась переводами Сомерсета Моэма, Гилберта Честертона и Джона М. Кутзее.
Ну а пока книга добирается до прилавков, предлагаем вам прочитать неожиданно жутковатый фрагмент, объясняющий, откуда в романе Киза взялись лабораторные мыши.
Элджернон, Чарли и я / Дэниел Киз ; [перевод с английского Ю. В. Фокиной]. — М. Эксмо, 2021. — 320 с.

ГЛАВА 2. БЕЛАЯ МЫШЬ
Поезд остановился на станции «Восьмая улица»; оттуда, с Бродвея, до Вашингтонсквер, где помещался университет, было рукой подать.
Я заскочил в кафешку за пончиком с кофе — и заметил приятеля. Он мне махнул, я уселся у барной стойки. С этим парнем мы вместе учились в старших классах еще в Бруклине, но общались мало. Росту в нем было шесть с лишним футов. А во мне — всего пять футов пять дюймов.
Мы подружились не раньше, чем обнаружили, что оба зачислены на подготовительные курсы в медицинском и вдобавок попали в один класс по биологии. С тех пор мы занимались вместе и тестировали один другого перед экзаменами. Из-за разницы в росте нас прозвали «Матт и Джефф» — как персонажей популярных комиксов. Сам я называл своего друга Лыжей.
Я как раз макнул пончик в кофе, и вдруг Лыжа говорит:
— Объявление видел? Записываешься добровольцем — получаешь освобождение от платы за учебу.
— Да ладно!
— В пятничной газете напечатано, — продолжал Лыжа. — Любой студент, который запишется минимум за три месяца до того, как ему стукнет восемнадцать, может выбирать, где служить. Не успеешь до восемнадцати — отправят в пехоту. Я лично во флот собираюсь.
— Мне восемнадцать будет 9 августа, — говорю я. — Как раз через три месяца. Только вряд ли я кому нужен, с моим-то зрением.
— Попытка — не пытка. Столько парней погибло. Сейчас берут всех, кто шевелится.
Мы расплатились и направились к главному входу в университет.
Уж конечно, Лыжу примут, думал я с завистью. Я всегда мечтал о море; точнее, меня вдохновляла мысль о морских просторах. В шестнадцать, в выпускном классе, я вступил в ряды Морских скаутов Америки. Корабль наш назывался «Летучий голландец-3» и представлял собой бот, в котором матросы некогда отправлялись на берег в увольнительную. Затем переоборудованный бот долго служил прогулочным катером и вот достался нам. На весенних каникулах мы его вычистили, заново покрасили и все лето курсировали по проливу Ист-Ривер.
После торжественных приемов новых ребят капитан рассказывал историю легендарного судна, в честь которого назвались и мы. На борту «Летучего голландца» (битком набитого золотом) случилось жестокое убийство, после чего вспыхнула чума, так что судно не принимал ни один порт. Если верить матросским байкам, корабль-призрак до сих пор носит по морю; команде не суждено вернуться домой. Говорят, и по сей день в непогоду «Летучий голландец» виден с мыса Доброй Надежды. Понятно, что является он отнюдь не к добру.
Всякий раз наш капитан украшал легенду новыми подробностями. В конце концов меня разобрало любопытство, и я полез в энциклопедию. Открылась существенная деталь: проклятие будет снято, если капитан отыщет женщину, готовую ради него пожертвовать всем. Я живо поделился с приятелями, и мы себе выдумали квест специально для прогулок по бруклинскому Проспект-парку. Мы искали так называемых «девушек победы» — молодых особ, согласных жертвовать всем ради юношей, идущих на войну.
Мы представлялись моряками. Между настоящей флотской формой и нашей, бойскаутской, было всего два отличия. Во-первых, якорьки на наших воротничках — вместо звездочек; во-вторых, на переднем левом кармане буквы «Б.С.А» (Бойскаут Америки). Если какая-нибудь девушка спрашивала, почему мы невысокого роста, мы объясняли, что служим на подлодке; если же интересовались аббревиатурой «Б.С.А.», мы отвечали, что это расшифровывается как «Боевая секретная армада».
Якорьки (вместо звездочек) вопросов ни разу не вызвали.
«Девушек победы» мы подцепляли в достаточных количествах — Проспект-парк ими изобиловал. Увы: в отличие от своих более опытных и смазливых товарищей, я так и не сумел отыскать ту самую, которая пожертвует…
— Я тоже хочу во флот, — сказал я Лыже, пока мы ехали на лифте. — Только, с моей-то близорукостью, подозреваю, быть мне в пехоте.
— Вовсе не обязательно, — обнадежил Лыжа. — Запишись в морские перевозки. Требования к физической форме у них пониже, а освобождение от платы за учебу то же самое.
— Я ведь и в морских перевозках буду служить отечеству?
— Еще бы. Знаешь, какая в море пропасть мин да торпед? Морские перевозки — дело опасное. Я читал, на подступах к Мурманску этих ребят погибло больше, чем боевых матросов.
Мы надели лабораторные халаты и пошли в класс.
— Эх, Лыжа, да ведь родители в жизни бумажки не подпишут!
— Подпишут, если ты их насчет альтернативы просветишь.
В лаборатории мы разделились. Помню, еще при входе в ноздри мне шибанул запах формальдегида. На мраморном рабочем столе перед каждым студентом стоял поднос с крышкой. Я было потянулся снять крышку, но меня остановил профессор:
— Подносы не трогать!
Тем временем лаборант разносил наборы для вскрытия и шлепал рядом с подносами резиновые перчатки.
Едва он удалился, профессор скомандовал:
— Надевайте перчатки, снимайте с подносов крышки.
Я приподнял крышку — и отпрянул. На подносе лежала мертвая белая мышь.
— Сегодня, — продолжал профессор, — вы займетесь препарированием на настоящих образцах.
Нет, я, конечно, знал, что работа в лаборатории предполагает препарирование. Но я думал, нас предупредят. Судя по всему, профессор был очень доволен эффектом неожиданности. Не то чтобы это меня напрягало. Я сам выбрал биологию, ведь я намеревался стать хирургом.
В бойскаутском отряде я получил значок «За успехи в оказании первой медпомощи»; в наших круизах по Ист-Риверу считался «судовым доктором». Я врачевал раны, ожоги, мозоли и ссадины; я привык к виду и запаху крови. Можно сказать, закалился. Даже очерствел.
Однажды в выходной команда подняла мятеж из-за дурной кормежки. С тех пор я еще и сандвичи на ленч готовил. Совмещал обязанности врача и кока. В том «рейсе» главной хохмой была следующая: «Если Дэн не залечит нас до смерти, так непременно отравит».
Словом, препарирование мыши не должно было стать проблемой.
— Открываем наборы для диссекции, — сказал профессор.
На доске он успел разместить таблицу — мышиные внутренние органы.
— Берем скальпели, вскрываем образец от горла до хвоста. Надрез ведем по животу. Снимаем шкурку пинцетом.
Я делал, как было велено. Надрез получился легко и аккуратно. Я обнаружил, что имею дело с самочкой.
— Извлекаем внутренние органы, кладем в чашку Петри, нумеруем.
Матка моей мышки оказалась рыхлой. Я вскрыл ее. Вытаращил глаза. Отшатнулся. В матке были нерожденные мышата. Крохотные. Свернувшиеся колечками. С закрытыми глазками.
— Какой ты бледный, — шепнули мне через стол. — Тебе нехорошо?
Первое потрясение уступило место печали. Несколько жизней принесено в жертву моему учению. Мышатки погибли, чтобы я мог «набить руку».
Соседка слева вытянула шею, любопытствуя. Прежде, чем я успел подхватить ее, девушка без чувств рухнула со стула. Лаборант бросился к ней с нюхательной солью, профессор велел продолжать препарирование. Вдвоем с лаборантом они понесли девушку в медпункт.
Я же, будущий великий хирург, остался сидеть как парализованный. От одной мысли, что придется вырезать нерожденных мышат, меня затошнило. Пулей я выскочил из лаборатории, метнулся в туалет, вымыл лицо и руки и уставился в зеркало. Надо было возвращаться и доделывать начатое.
Через несколько минут я действительно вернулся. Смущенный своим бегством, желая оправдаться, я вымучил:
— Как крестный отец этого выводка, я сегодня всех угощаю сигаретами. А сигар не ждите.
Смех, одобрительные хлопки по плечу, поздравления — все это меня как-то уравновесило. Правда, пока я заканчивал препарирование, в голове вертелся дурацкий стишок:
Три слепых мышонка — пики-пик — За фермеровой женкой — шмыги-шмыг. А она-то ножиком — вжики-вжик, Хвостики мышиные — чики-чик!
— Отличная работа, Киз, — похвалил профессор. — Ставлю высший балл.
Лыжа дружески пихнул меня в бок.
— Везунчик! Надо же, брюхатенькая попалась.
В тот вечер, готовясь к викторине по теме «Британские поэты», я открыл поэтическую антологию и стал просматривать оглавление. Мой взгляд зацепился за Элджернона Чарлза Суинберна. Вот так имечко, подумал я.