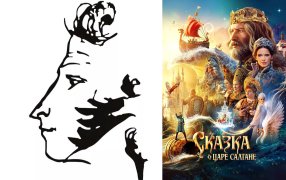Текст: Ольга Лапенкова
То, что «Мёртвые души» вполне могли стать чем-то вроде литературного сериала, — доказанный факт. Сам Николай Васильевич Гоголь в одном из писем В. А. Жуковскому заявлял: «Огромно велико мое творение и не скоро конец его...» Но сколько томов задумывал Гоголь и на какие источники опирался — это уже долгие годы является предметом бурных дискуссий в литературоведческих кругах.
Кто-то считает, что «Мёртвые души» планировались как трилогия — потому что Николай Васильевич якобы собирался написать «Божественную комедию» на русский манер (а это произведение итальянского поэта Данте Алигьери состоит как раз из трёх частей: «Ад», «Чистилище» и «Рай»). Звучит вполне логично, особенно учитывая, что в первом томе главный герой опускается всё ниже, то есть посещает всё более и более порочных помещиков, пока не достигает самого дна в имении Плюшкина. Но кто-то спорит с этим утверждением — и считает, что «Мёртвые души» больше похожи на «Одиссею», с той только разницей, что Павел Иванович Чичиков, в отличие от древнегреческого героя, вряд ли когда-нибудь доберётся домой. Потому что дома у него, собственно, нет. (Обо всём этом мы писали в другой статье.)
Так или иначе, по законам построения интриги действие — как внутри одной книги, так и внутри серии произведений — должно постепенно накаляться. Поэтому во втором томе неизбежно приключилось бы поворотное событие, которое подтолкнуло читателей к развязке. А Чичиков, опять же по литературоведческим канонам, должен был многое переосмыслить и после множества приключений стать совсем не таким человеком, каким он был, садясь в бричку и отправляясь на промысел.
Судя по сохранившимся черновикам, Николай Васильевич широко размахнулся, работая с контрастами. Во втором томе автор помещал главного героя в идиллические «декорации» и пытался по-хорошему его вразумить, а когда персонаж не слушался, обходился с ним уже по-плохому. Ближе к середине книги Чичиков должен был оказаться, ни много ни мало, в тюрьме. И загреметь туда, не оценив дружеской заботы о нём новых персонажей: не менее колоритных, чем все эти Маниловы и Коробочки, — но гораздо более приятных людей.
В первой части этой статьи мы поговорим о человеке, который стал Чичикову почти что другом, а во второй — о самом великом комбинаторе.
Уездный город vs рай на земле
Первый том «Мёртвых душ» начинался с унылого описания уездного города NN — типичного населённого пункта, который находится в нескольких сотнях километров от Петербурга. Точнее, не всего города, а того клочка, где Чичиков арендовал себе «покой» в гостинице. Но нетрудно догадаться, что похожие пейзажи и интерьеры были раскиданы по всему городку.
"Покой был известного рода, ибо гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за два рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов, и дверью в соседнее помещение, всегда заставленною комодом <...>. Наружный фасад гостиницы отвечал её внутренности: она была очень длинна, в два этажа; нижний не был выщекатурен и оставался в тёмно-красных кирпичиках, ещё более потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самих по себе; верхний был выкрашен вечною жёлтою краскою; внизу были лавочки с хомутами, верёвками и баранками".
Искатели намёков и пасхалок быстро догадались, что аббревиатура NN обозначает Нижний Новгород. Автор не стал указывать реальный топоним по двум причинам: во-первых, чтобы не обидеть местных жителей, а во-вторых, чтобы намекнуть на общероссийский характер явлений, с которым столкнётся главный герой. Ведь именно из гостиницы он отправился колесить по области — и знакомиться с Маниловым, Коробочкой, Ноздрёвым и далее по списку.
Что же касается второго тома «Мёртвых душ», его Гоголь планировал начать совершенно по-другому: с описания, ни дать ни взять, рая на земле. Таким образом автор убивал двух зайцев: проводил параллели с первым томом — и создавал интригу. Уездный город NN встретил Чичикова с прохладцей, а как пойдёт дело тут?
Горы и равнины
Первые страницы несостоявшегося продолжения сохранились полностью. Приведём их с рядом сокращений.
"Зачем же изображать бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? Что ж делать, если уже такого свойства сочинитель <...>. И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись на закоулок.
Зато какая глушь и какой закоулок!
Как бы исполинской вал какой-то бесконечной крепости, с наугольниками и бойницами, шли, извиваясь, на тысячу с лишком вёрст горные возвышения. Великолепно возносились они над бесконечными пространствами равнин <...>. Река, то верная своим берегам, давала <...> колена и повороты, то отлучалась прочь в луга, затем, чтобы, извившись там в несколько извивов, блеснуть, как огонь перед солнцем, скрыться в рощи берёз <...> и выбежать оттуда в торжестве, в сопровождении мостов, мельниц и плотин, как бы гонявшихся за нею на всяком повороте.
В одном месте крутой бок возвышений убирался гуще в зелёные кудри дерев. <...> И над всем этим собраньем дерев и крыш возносилась свыше всего своими пятью позлащёнными играющими верхушками старинная деревенская церковь. <...> И всё это в опрокинутом виде, верхушками, крышками, крестами вниз, миловидно отражалось в реке <...>.
Вид был очень хорош, но вид сверху вниз, с надстройки дома на отдаленья, был ещё лучше. Равнодушно не мог выстоять на балконе никакой гость и посетитель. От изумленья у него захватывало в груди дух, и он только вскрикивал: «Господи, как здесь просторно!» Без конца, без пределов открывались пространства: за лугами, усеянными рощами и водяными мельницами, в несколько зеленых поясов зеленели леса; за лесами, сквозь воздух, уже начинавший становиться мглистым, желтели пески. И вновь леса, уже синевшие, как моря или туман, далеко разливавшийся; и вновь пески, ещё бледней, но всё желтевшие..".
Мы сократили «пейзажный» отрывок вдвое, если не втрое. Дружеский совет: на пожалейте сил, отыщите в своём бешеном графике спокойную минутку и прочитайте этот отрывок полностью — эффект погружения там запредельный. Однако для самых торопливых читателей уточним, что вид открывался примерно такой:

Казалось бы: в таком прекрасном краю должны обитать идеальные люди (или хотя бы такие, которых можно обвинить разве что в кидании фантиков мимо урны). Но нет. По мере дальнейшего чтения мы убеждаемся, что автор водит нас ещё не по раю, но по чистилищу.
Дом, с балкона которого открывается вид на всё это великолепие, принадлежит «коптителю неба» — не делающему ничего плохого, но и хорошего тоже Андрею Ивановичу Тентетникову. Каждый день у него проходит, примерно как у Манилова из первого тома, разве что семьи у нового героя нет. Зато есть книга, в которой он продвинулся намного дальше 14-й страницы (кто понял отсылку, тот молодец, кто нет — пояснительная бригада здесь).
"Поутру просыпался он очень поздно и, приподнявшись, долго сидел на своей кровати, протирая глаза <...>, и во всё это время у дверей стоял человек Михайло с рукомойником и полотенцем. Стоял этот бедный Михайло час, другой, отправлялся потом на кухню, потом вновь приходил, — барин всё еще протирал глаза и сидел на кровати. Наконец, подымался он с постели, умывался, надевал халат и выходил в гостиную затем, чтобы пить чай, кофий, какао <...>. И два часа просиживал он за чаем. И этого мало, он брал ещё холодную чашку и с ней подвигался к окну, обращенному на двор. У окна же происходила всякий день следующая сцена.
Прежде всего ревел Григорий, дворовый человек в качестве буфетчика, относившийся к домоводке Перфильевне почти в сих выражениях:
— Душонка ты возмутительная, ничтожность этакая. Тебе бы, гнусной, молчать.
— А не хочешь ли вот этого? <...> Да и приказчик вор такой же, как и ты. Думаешь, барин не знает вас? Ведь он здесь, ведь он всё слышит.
— Где барин?
— Да вот он сидит у окна; он всё видит.
И точно, барин сидел у окна и всё видел.
<...> За два часа до обеда уходил он к себе в кабинет затем, чтобы заняться сурьезно сочинением, долженствовавшим обнять всю Россию со всех точек — <...> впрочем, колоссальное предприятие больше ограничивалось одним обдумыванием. Изгрызалось перо,<...> бралась наместо того в руки книга и уже не выпускалась до самого обеда. Книга эта читалась вместе с супом, соусом, жарким и даже с пирожным, так что иные блюда оттого стыли, а другие принимались вовсе нетронутыми. Затем следовала трубка с кофием, игра в шахматы с самим собой; что же делалось потом до самого ужина, право, и сказать трудно".
В имении, где есть и «приказчик», и «домоводка», и — на минуточку! — сам барин, царит полный хаос. Как же так вышло?
Автор с удовольствием это объясняет: биографию Тентетникова он прописывает так же подробно, как в первом томе — историю Чичикова. (А почему в XIX веке считалось хорошим тоном объяснять, в какой семье воспитывался герой и какие радости и горести он прошёл в первые пятнадцать-двадцать лет, мы писали в ещё одной статье.)
Итак, Андрюша Тентетников — единственный сын, уродившийся в богатой дворянской семье, — рос благоразумным мальчиком («всё клонилось к тому, чтобы вышло из него что-то путное»). Поэтому его пристроили в некое учебное заведение, где Андрюше попался чудесный наставник.
"Идол юношей, диво воспитателей, несравненный Александр Петрович одарен был чутьём слышать природу человека. Как знал он свойства русского человека! Как знал он детей! <...> Не было шалуна, который, сделавши шалость, не пришёл к нему сам и не повинился во всем. Этого мало. Он получал строгой выговор, но уходил от него не повесивши нос, но подняв его. И было что-то ободряющее, что-то говорившее: «Вперёд! Поднимайся скорее на ноги, несмотря, что ты упал». <...>
Как любили его все мальчики! Нет, никогда не бывает такой привязанности у детей к своим родителям. Нет, ни даже в безумные годы безумных увлечений не бывает так сильна неугасимая страсть, как сильна была любовь к нему. До гроба, до поздних дней благодарный воспитанник, подняв бокал в день рождения своего чудного воспитателя, уже давно бывшего в могиле, оставался, закрыв глаза, и лил слезы по нём... <...>
Малоспособных он не держал долго; для них у него был коротенькой курс. Но способные должны были у него выдерживать двойное ученье. И последний класс, который был у него для одних избранных, вовсе не походил на те, какие бывают в других заведеньях. Тут только он требовал от воспитанника <...> того высшего ума, который умеет не посмеяться, но вынести всякую насмешку, спустить дураку и не раздражиться, и не выйти из себя, не мстить…"
Наставник Тентетникова учил своих подопечных не столько «техническим» вещам, сколько тому, как стать Человеком с большой буквы. Но увы! Великий учитель умер, и Андрюша, минуя чистилище, попал из рая прямиком в ад. Новый учитель оказался хуже некуда, нравы в учебном заведении моментально развратились, и герой не смог найти утешения ни в дружеском кругу, ни даже в церкви, потому что «попался не весьма умный поп». (Кстати, не является ли эта гоголевская фраза отсылкой к отношениям, которые сложились у писателя с его новым духовным отцом — Матфеем Константиновским? Из-за влияния этого священника Николай Васильевич, скорее всего, и сжёг второй том.)
Выпустившись, Тентетников поступил на службу — но нашёл там только страх и трепет перед теми, кто выше по чину. В унылой конторке ему стала всё чаще представляться собственная деревня, где было, ни много ни мало, 300 душ. В те времена «душами» считались только крестьяне мужского пола, так что, дабы выяснить реальное количество подданных, нужно умножить их на два: выйдет, что в подчинении Тентетникова находилось порядка 600 человек. Только представьте: полтысячи человек работают на одного-единственного счастливчика! Это ли не рай?
Увы, после периода работы под началом «управляющего-плута» крестьяне так и не научились «выводить общую ноту» — общую, конечно, с барином. Привыкшие всё к тому же лицемерию, они начали ловко обманывать хозяина, и вскоре Тентетников обнаружил, что, вопреки всем законам природы, на его собственных полях урожай вырастает вдвое меньший, чем на крестьянских. После чего — во всём разочаровавшийся, не состоявшийся ни в науке, ни в карьере, ни в хозяйстве, ни в семейной жизни, — Андрей Иванович предался бесконечному безделью.
И такой-то человек должен был стать приятелем Чичикова — и доказать Павлу Ивановичу, что тот способен не только на авантюры, но и на добрые дела! А как это произошло, читайте во второй части статьи.
Использованные источники
- Переписка Н. В. Гоголя. В двух томах. — Художественная литература; Москва; 1988.
- Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений в четырнадцати томах. — Издательство АН СССР, 1937 – 1952; Том 7.