
Текст: Денис Безносов
1. Emily St. John Mandel. Sea of Tranquility
Alfred A. Knopf, 2022
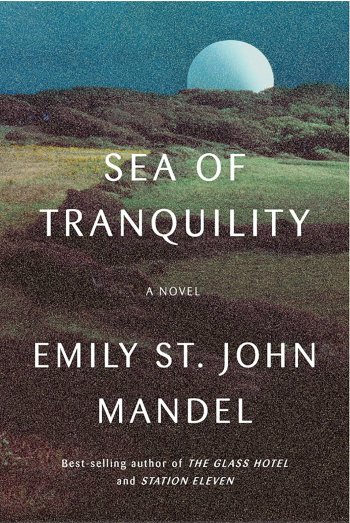
Герой, живущий в начале XX века, наблюдает в канадском лесу странное явление — будто бы вдруг опустилась тьма, зазвучала какофония из скрипок, паровозных гудков и еще какого-то неясного шума. В 2020-м женщина смотрит видео по мотивам произошедшего в том лесу и принимается рефлексировать. Еще через двести лет успешная писательница пишет роман, некоторым образом связанный с событиями прошлого и незнакомцем, загадочным образом принимавшим в них участие. И, наконец, еще через двести лет живет тот самый незнакомец, который вроде бы научился путешествовать по различным эпохам. Разумеется, все сюжетные слои связаны между собой. Помимо намеренно путано-нелинейной структуры повествования (так случается, когда имеешь дело с путешествиями во времени) будет немало размышлений о симулякрах, зыбкости физической реальности и ее инвариантности в зависимости от наблюдателя. К тому же, согласно законам жанра и во избежание эффектов бабочки, ведающему о скрытых механизмах вселенной герою будет запрещено что бы то ни было сообщать людям прошлого — дабы не разрушить органическую конструкцию мира.
Эмили Сент-Джон Мэндел, прославившаяся своим четвертым (впоследствии экранизированным) постапокалипсисом про вирус Station Eleven, любит работать с разного рода модными фантастическими допущениями. Рассуждая о вариантах будущего, уготованного человечеству, она сосредоточена прежде всего на переживаниях героев, то есть смотрит на глобальное сквозь частное. Поэтому Sea of Tranquility — в первую очередь рассказ о людях, а уже потом трактат о пространственно-временных континуумах и идеалистических симуляциях. Слабая сторона романа — почти сценарная схематичность, недоделанность, всеобъемлющая сосредоточенность на рассказывании истории, отчего персонажи кажутся декоративными фигурками на большом, но толком не расчерченном поле. Увы, подобные романы-матрешки (будь то классический Cloud Atlas Митчелла или недавний бесформенный To Paradise Янагихары) часто заигрываются в формальные структуры, не всегда справляясь с жизнедеятельностью самих персонажей. Впрочем, Sea of Tranquility, по сути, устроена еще проще — то есть, надо полагать, в скором времени и эту книгу экранизируют.
2. Steve Toltz. Here Goes Nothing
Melville House, 2022
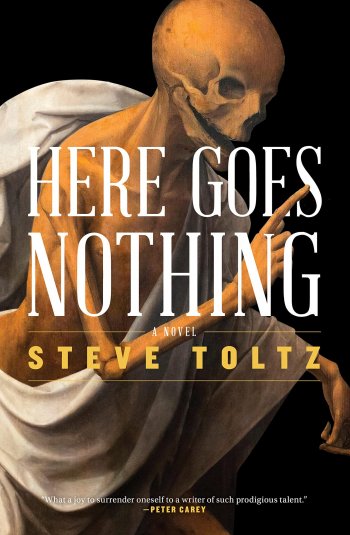
Когда-то Ангус промышлял грабительством и подрабатывал видеооператором на свадьбах, потом остепенился, женился, стал более-менее блюсти закон, но внезапно умер. Дело в том, что однажды на пороге его дома возник некто Оуэн, чудаковатый человек, якобы когда-то проживавший по тому же адресу, нынче страдающий от неизлечимой болезни Крейтцфельдта-Якоба и предполагающий окончить бренную жизнь там же, где начал. Взамен Оуэн предлагает отписать женатой паре довольно внушительное имущество (огромная удача, ведь как раз выяснилось, что жена Ангуса беременна). Вроде бы от сделки выигрывают все, однако на поверку оказывается, что Оуэн не так-то прост, да и ситуация куда безумней, чем казалось на первый взгляд. В итоге неожиданно умерщвленный Ангус оказывается на том свете, даже в своеобразном посмертье, и принимается пересказывать свои наблюдения, попутно анализируя прошлое и разбираясь, что же пошло не так. При этом загробный мир оказывается почти неотличим от нашего – та же бюрократия, бессмысленная трудовая деятельность, квартирный вопрос, претенциозная несправедливость и всеобъемлющий абсурд. Главное отличие одного от другого кроется в бесконечности – если здесь существует неизбежная завершенность, то там ни конца ни края не видно, а значит, придется приспосабливаться во что бы то ни стало.
Загробный мир Стива Тольца изображен в сатирическом ключе и скорее напоминает булгаковские памфлеты, скрещенные с сериалом The Good Place, нежели метафизические фантазии в духе Майка Маккормака (Solar Bones) и Джорджа Сондерса (Lincoln in the Bardo). Там не курят, потому что не выращивают табак, распределяют рабочие места в зависимости от полученной при жизни специальности (у Ангуса полезного опыта нет, поэтому его отправляют собирать зонтики). Жилищные условия там оставляют желать лучшего, коммунальные платежи больше земных. Государственный строй на том свете демократический («Я спросил, знает ли кто-нибудь, какая тут форма государства? — Демократия — ответил Иосиф. — Ну хорошо. — А вам что, больше подошел бы фашизм? — Ну нет, пойдет и демократия»). Монолог Ангуса по тону напоминает своеобразный стэндап, скачущий от рассказов из былой жизни к умозаключениям о смысле бытия. Тольц ироничен, умеренно язвителен, забавен, но вторичен и похож на очень многих, отчего Here Goes Nothing походит на забавную безделушку, не более.
3. Maddie Mortimer. Maps of Our Spectacular Bodies
Picador, 2022
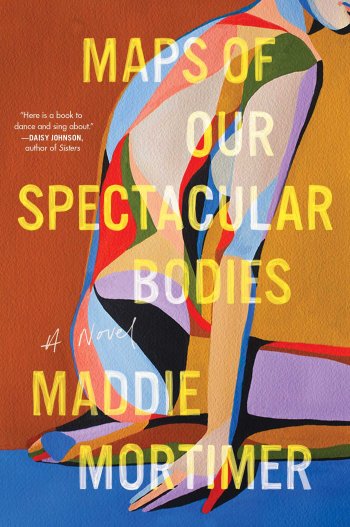
Девочка из семьи священника, воспитанная в строгом смирении и ищущая взаимопонимания с родителями, переживает сильное влечение к приемному брату, в дальнейшем перерастающее в связь. Через несколько лет она же — мать, выстраивающая отношения с собственной дочерью, мучительно и тщетно сражающаяся с раком и погруженная в бесконечные рефлексии о духовности-телесности, неотвратимости, скрытых закономерностях происходящего и того, чему случиться не суждено. Так, ее фрагментарные внутренние монологи вращаются вокруг трех узловых конфликтов: классическое притяжение-отторжение с родителями и сопутствующий комплект coming-of-age, запретные чувства к пускай и не кровному, но все-таки брату (в конце концов, речь о религиозной семье) и амбивалентные переживания матери-дочери, отягченные попытками побороть страшное заболевание (в романе есть поток сознания от имени рака). Соответственно группируются основные темы — семья, сексуальность, смерть — все в той или иной степени имеющие отношение к телесности.
Maps of Our Spectacular Bodies своей искренностью и напряжением на грани нервного срыва напоминают A Girl Is a Half-Formed Thing Эймир Макбрайд (правда, проза Мэдди Мортимер отличается куда большей водянистостью). Многочисленные украшения художественного текста, визуализации аффектаций, игра со шрифтами, нарочитая поэтизация прозаического и прочее наглядно-суггестивное — отсылают уже к Али Смит (которая, в этом деле куда изящнее и прихотливей). При этом Мортимер удаются броские сравнения (взять хотя бы эпизод, где полчища сперматозоидов, оплодотворяющих яйцеклетку, сравниваются с людьми, бегущими из Чернобыля после аварии на АЭС). В остальном писательница действует вполне в русле традиционно-английской камерной романистики о травмированных семьях, наследуемых трагедиях и подгнивающей коммуникации. Ее персонажи несчастны ровно так и настолько, насколько того требует композиция сочинения, и таким же образом — согласно негласным правилам — нагнетается эмоциональный накал и выдавливается неминуемая слеза. Там, где Энн Энрайт достаточно промолчать, не договорив мысль до конца, и едва намекнуть на переживания героев, а той же Макбрайд наоборот, вывалить на читателя сырую необработанную массу концентрированной боли, Мортимер как будто не справляется ни с тем, ни с другим. Хотя и пишет не без определенного мастерства.
4. Monica Ali. Love Marriage
Virago, 2022
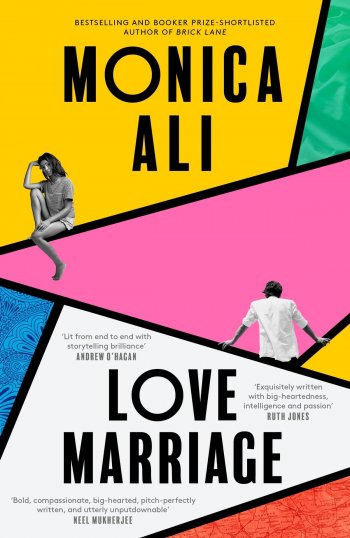
Все смешалось в доме Горами. Двадцатишестилетная красавица Ясмина Горами, дочь добропорядочных калькуттских мусульман и будущий врач, выходит замуж за молодого англичанина upper middle class Джо Сэнгстера, сына некогда скандально известной писательницы-феминистки. Теперь молодоженам предстоит познакомить своих родителей, попутно сблизив прогрессивный Запад с традиционным Востоком, и разобраться в собственных чувствах — насколько сами они приспособлены к современной цивилизации. Роман начинается с показательной сцены большого семейного застолья, на котором родители невесты впервые встречаются с матерью жениха (она заказала кейтеринг, но мама Ясмины все равно наготовила тысячу блюд) и которое наглядно демонстрирует две различные, отчасти противоположные мировоззренческие парадигмы. Причем архаичная постколониальная система ценностей, отвергая западные идеалы, полуосознанно принимается к ним тянуться. Так через банальную историю об этнически-смешанной семье проступает обобщенное представление о глобализации, нивелирующей культурное многообразие и вместе с тем трансформирующей устаревающее представление о мире в нечто более-менее соответствующее нынешней действительности.
Подобно многим современным британцам Моника Али пишет сразу обо всем — о любви, религии, политике, сексе, гендере, исламофобии, недофинансировании здравоохранения, соцсетях, психоанализе, Брекзите и прочем. Отталкиваясь от постколониальной травмы и дихотомии Запада-Востока, Али принимается живописать масштабную панораму общества во всей его неоднозначности, периодически высмеивая наиболее абсурдные его стороны. Незамысловато-ироничный Love Marriage до того перенасыщен проблемными вопросами и разномастными персонажами, что иной раз неясно, зачем вообще потребовалось так много всего. Вероятно, дело в том, что Love Marriage — первая книга Али за более чем десять лет молчания, и автору попросту захотелось выговориться, вскрыть как можно больше язв глобально джентрифицированной Европы, где выходцы из очень разных культур вынуждены терпеливо уживаться друг с другом. И иногда им это удается.
5. Jhumpa Lahiri. Translating Myself and Others
Princeton University Press, 2022
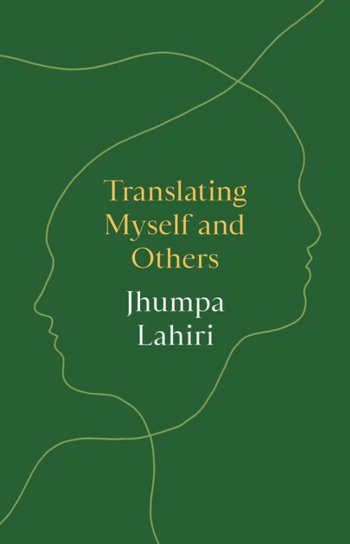
Американобенгальская писательница Джумпа Лахири, обладательница двух Пулитцеров (за постколониальные рассказы Interpreter of Maladies и семейную-сагу-на-фоне-поворотных-событий The Lowland), в 2016 году предпринимает радикальную лингвистическую трансформацию. Вслед за Набоковым, Беккетом и прочими Лахири отказывается от родного языка (вернее, языков — бенгальского и вскоре приобретенного английского) и принимается создавать оригинальные художественные тексты на итальянском, а уже потом переводить полученное на английский. Ярким тому примером стал недавний роман в фрагментах Whereabouts, напоминающий отчасти «Бегунов» Токарчук, сотканный из миниатюрных зарисовок и сиюминутных наблюдений за окружающим миром.
Лахири признается, что «была переводчиком прежде, чем стала писателем», то есть сначала обуздала чужой язык, а уже затем принялась на нем сочинять. Поворот к итальянскому — следующий шаг в освоении языкового пространства, попытка взять под контроль новые, доселе чуждые механизмы речи. Рассуждениям о смене языка, фигуре писателя-переводчика, о природе перенесения смысла из одной языковой среды в другую посвящены эссе из нового сборника Лахири Translating Myself and Others.
Работая с чужим языком, Лахири не может избавиться от синдрома самозванца, отчасти навязываемого окружающим миром. Скажем, когда итальянцы спрашивают ее в интервью, зачем она пишет «на их языке», или добавляют кавычки в ее слова о «ее "итальянских" стихах» («Почему слово "итальянский" в испуганных кавычках? Потому что все, что я пишу по-итальянски, — на самом деле лживо, поддельно, коряво и несущественно?»). Она много размышляет о трудностях автоперевода — «Нет никаких обязательных правил, если единственный критик — ты сам» — и переводе чужих произведений (преимущественно романов Доменико Старноне). Лахири признается, что пишет на итальянском, чтобы ощутить свободу, но осознает, что смена языка замедляет ее восприятие, помещает в рамки определенных формальных ограничений. Новый язык ослепляет — «Мне кажется, я слепа и по-английски, просто наоборот. Знакомость, привычность, простота создают некую иную форму слепоты». И, конечно, другой язык диктует другие формы повествования, о чем Лахири, к сожалению, в эссе почти не говорит, но демонстрирует своими изящными сочинениями.
6. Ottessa Moshfegh. Lapvona
Jonathan Cape, 2022
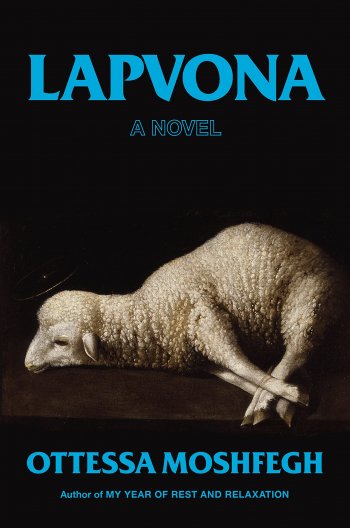
Средневековье располагает к мизантропии, поэтому лучше прочих эпох подходит для разоблачения человечества. Невысокий уровень и без того непродолжительной жизни, крайне синкретическая религиозность, странная по нынешним меркам система ценностей и всепожирающий социум, руководствующийся кривоватыми принципами в духе «око за око». Славные времена, когда насилие оправдывалось бесконечным количеством догматов, было в порядке вещей и требовало разве что систематического раскаяния. Примерно в такой атмосфере существует средневековая деревушка Лапвона, принадлежащая властному лорду-садомазохисту Уильяму, управляющему народом вполне традиционным образом – посредством страха и изощренного насилия. Сами жители деревни не уступают руководству в неотесанной свирепости — стоит им поймать пару-другую убийц-наемников, как они тут же принимаются чинить самосуды да карать с наслаждением. Живет в босхианской Лапвоне пастух Джуд, этакий собирательный образ деревенского мужика, который до того «донаказывал» жену, что та померла, и его тринадцатилетний сын Марек с искривленным позвоночником (отец не только тиранил жену, но и принудил к неудавшемуся аборту). Обозленный на искалеченную судьбу Марек в порыве гнева случайно убивает хозяйского сынка, и отец, чтобы избежать наказания и загладить вину, отдает лорду своего сына.
Надо полагать, Оттесса Мошфег, как писатель Треллис из «У Плыли-две-птицы» О'Брайена, задумала притчу о самых мерзких пороках человеческого социума. Рассказывая истории жителей богом забытой деревушки, главных и второстепенных, она сосредотачивается на сухой констатации событий, начисто игнорируя всякую психологию, даже периодически демонстративно не обращая внимания на причинно-следственность. Все это делается для универсальности высказывания об обществе в целом, вне зависимости от эпохи (просто на примере Средневековья рассказывать о пороках чуточку проще). Любопытно, что Мошфег не делает никаких выводов, ничего не постулирует и не разжевывает. Ей важно вывалить на читателя ворох чудовищных событий, шокировать степенью откровенности и оставить вот так, наедине с прочитанным. То есть поставить некое метафорическое зеркало-инсталляцию, заставить смотреть, но не давать сопроводительных подсказок. Выходит у Мошфег не сказать, чтобы оригинально, но более чем достойно и любопытно.
7. Tom McCarthy. The Making of Incarnation
Jonathan Cape, 2021
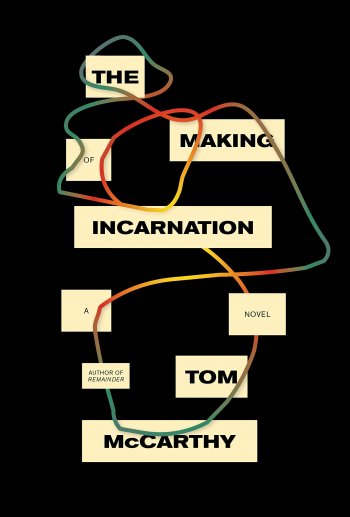
Американская ученая Лилиан Гилбрет многие годы занималась научной организацией труда и вместе со своим мужем Фрэнком основоположила науку о движениях. Среди прочего для наглядного изучения базовых процессов, лежащих в основе производства, она изготавливала так называемые циклограммы — на руку рабочему надевался светящийся элемент, и фотоаппарат с длинной выдержкой фиксировал движение, определяя неудобства, влияющие на эффективность. Но помимо фотоциклограмм — и здесь факты преобразуются в вымысел — Лилиан Гилбрет создавала объемные модели цикличных движений, распределяла их по коробкам вроде обувных и педантично каталогизировала. Таким образом появилась целая библиотека человеческих движений, каждое из которых можно измерить, сымитировать, усовершенствовать и даже проконтролировать. Ключевое открытие Гилбрет делает в утраченной ныне коробке № 808 — вместе с коллегой из рижского университета они вскрывают тайные механизмы человеческих движений и понимают, как ими управлять. Вокруг этой загадочной коробки сосредоточится внимание трех персонажей, доселе между собой незнакомых, — юристки, работающей на контору, занимающуюся авторским правом на комбинации человеческих движений (от хореографии до быта), консультанта по mo-cap, работающего на съемках фильма (того самого Incarnation из названия), представляющего собой нечто вроде истории Тристана и Изольды в декорациях Star Wars, и агента ЦРУ, которому поручено все это расследовать и доложить начальству о результатах.
Том Маккарти, один из самых интересных современных британских авторов, неоднократно касался темы цикличности и — вслед за прочими пост- и постпостмодернистами — всеобъемлющей имитации. В Remainder герой буквально моделирует в реальности случайные вспышки собственной утраченной памяти и, выстраивая повторяющиеся сценки и проигрывая их циклами, чтобы обрести настоящего себя, а антропологический Satin Island почти целиком посвящен теме ритуалов, карго-культов (с неизбежными намеками на нашу просвещенную цивилизацию) и опять-таки имитаций. The Making of Incarnation — следующий этап в размышлении о закономерностях действий как последовательностей движений, где человек выступает в роли экспериментальной машины, сливающейся с современными технологиями. Отсюда отсылки к пионерам научной организации труда, спорившим с Фредериком Тейлором — не только к вышеупомянутой Гилберт, но и к пролетарскому исследователю и писателю Алексею Гастеву, занимавшемуся совершенствованием производственных процессов. Движущийся человек, измеренный, каталогизированный, запатентованный, становится идеальным механизмом, применимым в любой сфере. Его польза для производства и государства несомненна, его одержимость технологиями закономерна. Поэтому технология, с которой человек-механизм ощущает общность, становится таким же карго-культом, как Джон Фрум для жителей Вануату. Маккарти предлагает порассуждать о том, почему, зачем и в результате каких умозаключений так получилось. И, как всегда, ничего в конечном итоге не разъясняет.








