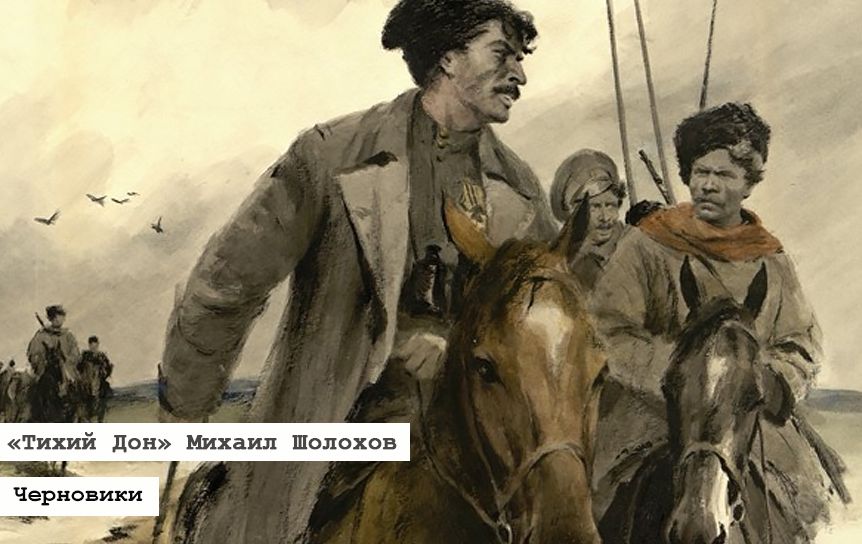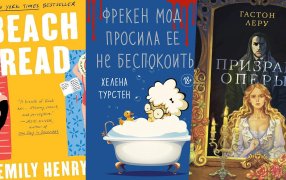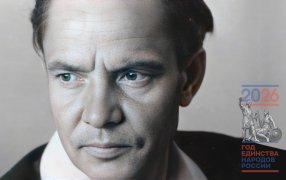Текст: Ольга Лапенкова
Согласитесь, звучит не больно-то убедительно? Но в СССР тысячи людей повторяли эти «предания» на полном серьёзе.
Особенно активно слухи распространялись после того, как Шолохов получил за роман-эпопею о донском казачестве Нобелевскую премию по литературе (1965) – и таким образом оказался героем номер один в сводке культурных новостей. Но и до этого авторство «Тихого Дона» пытались оспорить не раз и не два, что весьма огорчало Михаила Александровича, который относился к роману как к любимому детищу. Хотя и понимал, что злые языки найдутся всегда – и что он далеко не первый автор, которого пытались уличить в плагиате.
А автор кто?
Обвинения в том, что один писатель украл у другого как минимум сюжет, а как максимум – целую книгу, время от времени взрывают любую творческую тусовку. Правда, чаще всего они рождаются из зависти к более успешному участнику литературного процесса или желания свести личные счёты – и больше напоминают горячечный бред. Но иногда возникают и вправду спорные ситуации. Тогда приходится собирать целую коллегию единомышленников (или, если нет времени на полумеры, сразу обращаться в суд).
Так, однажды одному очень умному и талантливому, но достаточно мнительному человеку, а именно Ивану Александровичу Гончарову (тому самому, который написал «Обломова»), показалось, что Тургенев украл у него сюжет нового произведения – романа «Обрыв», причём сделал из него целых два отдельных произведения: романы «Накануне» и «Дворянское гнездо».
Вынашивая задумку, Гончаров не имел обыкновения держать её в секрете. К тому моменту, как произведение наконец вышло в свет (а Иван Александрович работал над ним аж двадцать лет), сюжет знала половина Петербурга. Но вот Тургенев, по мнению Гончарова, злоупотребил доверием товарища. Заподозрив неладное в тургеневском «Дворянском гнезде», обиженный Гончаров вызвал его на серьёзный разговор. Иван Сергеевич, который не горел желанием ссориться, кое-как уладил ситуацию. Но затем Гончаров усмотрел плагиат и в другом романе «Тургенева» – и написал письмо вот такого содержания:
«…При появлении „Дворянского гнезда“, опираясь на наши старые приятельские отношения, откровенно выразил Вам мою мысль о сходстве этой повести с сюжетом моего романа, как он был Вам рассказан по программе. Вы тогда отчасти согласились в сходстве общего плана и отношений некоторых лиц между собой, даже исключили одно место, слишком живо напоминавшее одну сцену, и я удовольствовался.
С появлением Вашей повести „Накануне“, прежде нежели я увидел и имел её у себя в руках, уже кое-где говорили и раза два мне самому о том, что будто и в ней есть что-то сходное с продолжением моей программы. Тогда только, получив её от Вас, я прочёл страниц тридцать и мне самому показалось, что есть что-то общее в идее Вашего художника Шубина и моего героя…»
Закончилось всё тем, что в марте 1860 года был созван некий «третейский суд», куда вошли четверо литераторов – товарищей Гончарова и Тургенева. Они сошлись во мнении, что Иван Сергеевич просто написал романы на схожую тематику, но уж точно ничего не крал. После этого Тургенев не общался с оскорблённым автором «Обломова» до самой смерти.
И всё-таки одно дело, когда известный писатель обвиняет другого литератора, тоже уже прославленного (до публикации романа «Накануне» Тургенев прогремел как автор множества виртуозных работ, в частности – сборника рассказов «Бежин луг» и душераздирающей «Муму»). И совсем другое – когда обвинения в плагиате сводятся к тому, что автор ничего из себя не представляет и никогда бы не прославился, если не присвоил чей-нибудь шедевр. Здесь на кону стоит вся карьера, а можно даже сказать – и вся жизнь писателя.
Но почему же Шолохова обвиняли в том, что он построил карьеру на обмане, и как это удалось опровергнуть? Давайте разбираться.
А судьи кто?
Молва о том, что с историей Григория Мелехова и его многочисленной родни что-то неладно, возникла, когда в печати появились только первые два тома романа-эпопеи. Читательское недоверие вызывало то, что автор, дескать, слишком молод, чтобы усесться за такой монументальный труд и выдать такой качественный текст: в нём, мол, всё подозрительно хорошо и по части стиля и слога, и в отношении описанных событий военного времени. 22-летний молодой человек, казалось, не мог знать столь многое о революции и Гражданской войне, ведь в те времена он был ребёнком.
Предположение, что Шолохов набил руку подозрительно рано, в целом имело место. В 1917-м, революционном, году будущему Нобелевскому лауреату было всего 12 лет. А в момент начала Первой мировой (1914–1918) – и того меньше. К тому же, блеснуть на заре творческой деятельности получалось далеко не у всех классиков: многие ждали признания годами и десятилетиями. Например, Чехов, как мы говорили совсем недавно, написал и поставил знаменитого «Дядю Ваню» после пары театральных провалов. А ведь это была небольшая пьеса, а не четырёхтомный труд.
Но, отвергая авторство Шолохова, сплетники должны были ответить на естественно вытекающий вопрос: а кто тогда создал роман-эпопею – и каким образом эта рукопись оказалась у Михаила Александровича? И здесь логика ответчиков моментально «сыпалась». Вот какие данные приводят Г. Хьетсо, С. Густавссон, Б. Бекман и С. Гил в книге «Кто написал „Тихий Дон“»:
«Как известно, слухи о плагиате появились впервые в 1928 году одновременно с выходом первых двух томов „Тихого Дона“ в литературно-художественном журнале „Октябрь“.
Поначалу молва утверждала, что Шолохов похитил рукопись из полевой сумки некоего офицера и опубликовал её под своим именем. По некоторым источникам, рукопись была найдена на теле убитого в сражении „белогвардейского офицера“ или „офицера белой армии“. Ходили даже разговоры об анонимных звонках издателям романа, когда им угрожали появлением некоей старушки, требующей восстановления авторства её „умершего сына“. <…>
Единственная попытка обнаружить источники слухов была предпринята советским ученым Константином Приймой. Указывая на неожиданную остановку публикации третьего тома романа в марте 1929 года, он обвиняет в этом сторонников Троцкого, которые якобы опасались, что откроется „вся правда о восстании в Вёшенской в 1919 году“».
Восстание, о котором говорится в этой цитате, – это бунт казаков, поначалу примкнувших к «красным» (то есть тем, кто против царской власти), но затем разочаровавшихся в своих новых кумирах. Восстание было спровоцировано крайне спорными решениями «красных» и их жестокостью.
Действительно ли слухи, которые распространились в годы первой публикации романа, имели такое происхождение? Установить это, пожалуй, уже невозможно. Вполне очевидно хотя бы одно: вряд ли какой-либо писатель, даже самый мнительный, отправился в бой с толстенной рукописью. А что касается возраста Шолохова, он действительно начал работу над романом в 22 года, – только вот труд этот затянулся на целых 14 лет.
Справедливости ради, конечно, необходимо сказать, что первые три тома Михаил Александрович написал с рекордной быстротой. На работу над каждым томом у него ушло по одному году. А вот потом труд серьёзно застопорился. В ХХ веке это выглядело подозрительно, но с тех пор подобное происходило не раз и не два. Иными словами, критики Шолохова просто не знали Джорджа Мартина (пожалуй, самого неторопливого писателя наших времён).
Опасный тёзка
Не успела улечься первая волна слухов, как тут же всколыхнулась другая: в 1930 году Шолохова снова обвинили в плагиате. Причём теперь были приведены – на первый взгляд – неопровержимые доказательства. Снова дадим слово Г. Хьетсо со товарищи:
«Одним из поводов <…> была публикация в 1930 году сборника памяти Леонида Андреева. Среди материалов, содержавшихся в книге, было письмо Андреева критику Сергею Голоушеву, датированное 3 сентября 1917 года. В этом письме Андреев от имени газеты „Русская воля“ отклоняет рукопись, которую он называет „твой ‘Тихий Дон’“, характеризуя её как „очень спокойное описание в будничных выражениях в стиле 1880-х годов“. Трудно понять, как эта характеристика может быть отнесена к роману, известному под названием „Тихий Дон“ <…>. Тем не менее имя Голоушева стало gefundenes Fressen [Счастливой находкой. – Прим. О. Л.] для тех, кто обвинял Шолохова в плагиате. Они сочли, что „претендент“ на звание автора наконец найден. К сожалению, в то время никто не потрудился поискать произведение Голоушева в других изданиях. И лишь недавно Рой Медведев сообщил, что рукопись была вскоре напечатана в одной московской газете под названием „С Тихого Дона“ под широко известным псевдонимом автора. <…>
Вполне понятно, что для Шолохова обвинения в плагиате, хоть и необоснованные, были крайне неприятны. 1 апреля 1930 года он с горечью пишет <…>: „Я получил ряд писем от ребят из Москвы и от читателей, в которых меня запрашивают и ставят в известность, что вновь ходят слухи о том, что я украл ‘Тихий Дон’ <…> и будто неоспоримые доказательства тому имеются в книге-реквиеме памяти Л. Андреева, сочиненной его близкими. На днях получаю книгу эту и письмо от Е. Г. Левицкой. Там подлинно есть такое место в письме Андреева С. Голоушеву, где он говорит, что забраковал его ‘Тихий Дон’. ‘Тихим Доном’ Голоушев — на моё горе и беду — назвал свои путевые и бытовые очерки, где основное внимание (судя по письму) уделено политическим настроениям донцов <…>. Это и дало повод моим многочисленным ‘друзьям’ поднять против меня новую кампанию клеветы“.
Итак, как выяснилось, в 1917 году другой автор попытался опубликовать произведение, которое по чистой случайности назвал точно так же.
Внеся ясность, Шолохов более-менее успокоился. Он не знал, что самый громкий скандал разразится уже после получения Михаилом Александровичем Нобелевской премии.
Коварный Солженицын
В 1965 году Михаил Александрович был удостоен Нобелевской премии по литературе «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». А через девять лет, в 1974-м, в Париже было опубликовано сочинение некоего Д., который в целом повторял аргументы, которые звучали ещё сорок лет назад:
«Автор с живостью и знанием описал мировую войну, на которой не бывал по своему десятилетнему возрасту, и гражданскую войну, оконченную, когда ему исполнилось 14 лет. Критика сразу отметила, что начинающий писатель весьма искушён в литературе <…>. Книга удалась такой художественной силы, которая достижима лишь после многих проб опытного мастера, — но лучший 1-й том, начатый в 1926 г., подан готовым в редакцию в 1927-м; через год же за 1-м был готов и великолепный 2-й, и даже менее года за 2-м подан и 3-й <…>. Тогда — несравненный гений? Но последующей 45-летней жизнью никогда не были подтверждены и повторены ни эта высота, ни этот темп.
Слишком много чудес! — и тогда же по стране поползли слухи, что роман написан не тем автором, которым подписан, что Шолохов нашёл готовую рукопись (по другим вариантам — дневник) убитого казачьего офицера и использовал его».
Настоящим автором был назван донской писатель Ф. Д. Крюков. Также была выдвинута более правдоподобная версия, каким образом Шолохов получил шедевральную рукопись: её якобы передал молодому писателю тесть (отец жены).
Помимо этого – что же принципиально нового заключалось в очередном всполохе слухов, которые Шолохов давным-давно опроверг, предъявив целую охапку своих черновиков и рукописей? Ничего. Кроме того, что на сей раз под ними подписался не кто иной, как ещё один отечественный Нобелевский лауреат, а именно – А. И. Солженицын. Который очень, очень не любил Шолохова как идеологического противника. Михаил Александрович был всеми руками «за» советскую власть, Александр Исаевич – совершенно наоборот.
Тут-то читатели, изголодавшиеся по сенсациям, и начали выдумывать версии – одна удивительнее другой. И чтобы опровергнуть всё это раз и навсегда, пришлось провести огроменную независимую экспертизу. А ещё – выпустить рукописи Шолохова отдельным изданием. Чтобы каждый желающий мог распознать почерк не только Михаила Александровича, но и его жены – Марии Петровны – и даже её сестёр.
Вместо заключения
Итак, «Тихий Дон» действительно написал Шолохов. Нынешние технические средства, позволившие провести поистине скрупулёзную проверку, доказали это раз и навсегда. Но если так, то откуда у молодого писателя достало наблюдательности, усидчивости и старательности, чтобы создать такой потрясающий эпос, да ещё и написать первые тома всего за три года?
Этого мы не знаем. Зато знаем, как ему удавалось работать настолько быстро. Всё дело было в том, что у Шолохова имелась незаменимая помощница – трудолюбивая супруга, которая переписывала его черновики.
Кто-кто, а жена Льва Николаевича Толстого точно поняла бы Марию Петровну – и сочувственно похлопала по плечу. Ведь именно Софья Андреевна, переписавшая от руки около 4700 толстовских страниц, помогла мужу закончить роман-эпопею «Война и мир» всего за шесть лет.
А потом к ним бы присоединилась жена Достоевского – Анна Григорьевна. И скромно, но с чувством собственного достоинства сказала бы: «А мы с Фёдором Михайловичем написали „Игрока“ всего за 26 дней!»