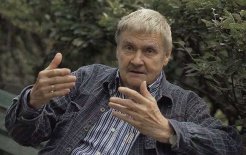Текст: Ольга Лапенкова
Во всех случаях объясняется это печально и просто: произведения остались незавершёнными из-за преждевременной смерти авторов. Но есть и хорошая новость. Все эти полотна можно «достроить» до конца — или почти до конца, если основательно покопаться в черновиках классиков.
Про затерянную концовку «Дубровского» и второй том «Мёртвых душ» мы уже писали, время перейти к Некрасову.
Найдётся всё?
Не будем отступать от нашей традиции — и прежде чем разбираться с, так сказать, проблемным вопросом статьи, напомним, в чём соль произведения.
Поэма Н. А. Некрасова начинается с того, что через какое-то небольшое время после отмены крепостного права семь крестьян случайно сталкиваются на дороге, после чего у них завязывается спор: кому же, собственно, на Руси живётся счастливо. Причём из экспозиции недвусмысленно следует, что под словом «счастье» они подразумевают не столько душевную гармонию, умение радоваться каждому дню, благодарность небесам и всё такое (иначе они бы, думается, направились в какой-нибудь монастырь), сколько «плюшки», о которых простолюдинам приходится только мечтать. А именно — стабильный доход, бытовой комфорт, социальные гарантии, уверенность в завтрашнем дне… ну и прочие вещи, которые можно почерпнуть из любой предвыборной речи любого политика.
То, что крестьяне трактуют слово «счастье» как что-то а) скорее материальное, нежели духовное и б) более или менее постоянное — так, чтобы это не «испарилось» через несколько лет, — доказывается перечнем вариантов, которые они предлагают. Среди тех, кому мужики «приписывают» счастье, нет ни крестьян (пусть даже зажиточных — такие на Руси тоже водились, хотя и в небольшом количестве), ни мещан (самое бедное и бесправное сословие, если не считать крестьянства). Нет и каких-нибудь экзотических вариантов типа «маленькие дети», «влюблённые девушки» и «деревенские дурачки». Быстротекущие состояния, как и отклонения от нормы, мужиков не интересуют: им суровую конкретику подавай!
- В каком году — рассчитывай,
- В какой земле — угадывай,
- На столбовой дороженьке
- Сошлись семь мужиков <...>
- Из смежных деревень:
- Заплатова, Дыряева,
- Разутова, Знобишина,
- Горелова, Неелова —
- Неурожайка тож,
- Сошлися — и заспорили:
- Кому живётся весело,
- Вольготно на Руси?
- Роман сказал: помещику,
- Демьян сказал: чиновнику,
- Лука сказал: попу.
- Купчине толстопузому! —
- Сказали братья Губины,
- Иван и Митродор.
- Старик Пахом потужился
- И молвил, в землю глядючи:
- Вельможному боярину,
- Министру государеву.
- А Пров сказал: царю...
После смачной драки мужики решают бросить все дела и ходить по Руси великой, пока не найдут поистине счастливого. Как говорится, план прост и оттого красив. Читатель, впервые открывший поэму, ждёт, что мужики опросят всех упомянутых персонажей… и ближе к концу понимает: что-то пошло не так. Потому что ни купца, ни боярина, ни министра, ни царя в тексте не оказывается. А якобы «счастливым» оказывается паренёк, который в детстве чуть не помер от голода, да и теперь явно не блещет здоровьем и не страдает от гипервитаминоза. Зовут его Гриша Добросклонов, он учится в семинарии (то есть получает духовное образование и готовится стать священником) и пишет проникновенные песни о любви к Родине. Но насколько хватит его запала — большой вопрос.
Неужели Некрасов так и собирался завершить поэму? Вовсе нет. Ведь Гриша счастлив, как сейчас говорят, в моменте, а в перспективе перестанет быть таковым: это в поэме прописано чёрным по белому.
Почему Гриша — так себе «счастливый»
На это есть как минимум две причины. Первую мы уже изложили выше: голод, холод, недосып ещё никому не шли на пользу. Трудно быть счастливым в условиях, когда будущее твоих родных — а тем более твоё собственное — не радует перспективами. И даже если кому-то это удаётся, то, как правило, недолго.
Увы, отец Гриши Добросклонова, некто Трифон, не смог обеспечить детям достойную жизнь. Не потому что не хотел, а потому что выбиться в люди, если уж ты родился в захолустье, было почти невозможно.
- Беднее захудалого
- Последнего крестьянина
- Жил Трифон. Две коморочки:
- Одна с дымящей печкою,
- Другая в сажень — летняя,
- И вся тут недолга;
- Коровы нет, лошадки нет,
- Была собака Зудушка,
- Был кот — и те ушли. <...>
- У Гриши — кость широкая,
- Но сильно исхудалое
- Лицо — их недокармливал
- Хапуга-эконом.
- Григорий в семинарии
- В час ночи просыпается
- И уж потом до солнышка
- Не спит — ждёт жадно ситника,
- Который выдавался им
- Со сбитнем по утрам.
Ситник — это хлеб (хорошо хоть не ржаной, а из более дорогой, пшеничной, муки). Сбитень — это напиток на основе мёда. То есть: если ты из простой семьи и хочешь получать образование, будь готов ночами просыпаться от голода, а потом весь день питаться абы как. Мало похоже на счастье, не правда ли?
Однако дело не только в этом, а в том, что
- Ему судьба готовила
- Путь славный, имя громкое
- Народного заступника,
- Чахотку и Сибирь.
Автор неприкрыто заявляет, что за свою вольнолюбивую поэзию Гриша рано или поздно отправится в ссылку. А в Сибири, конечно, ни о каком счастье и речи быть не может.
Но кто-то же, по задумке Некрасова, должен был ухватить за хвост синюю птицу?
Чтобы ответить на этот вопрос, заглянем в уцелевший набросок Некрасова, где классик вкратце набросал ещё 45 (!) эпизодов поэмы.
Купцы
Игнорировать это сословие автор не планировал. Совсем наоборот. В набросках Некрасова встречается как минимум три эпизода с совершенно разными героями, которые схожи в одном: все они принадлежат к купеческому сословию, наиболее богатому и привилегированному, если не считать дворянство. Приведём заметки Н. А. Некрасова полностью (как говорится, авторская орфография сохранена):
- •«Купец умирает. Когда ему плохо, выдает по 3 к. на нищего, когда поотпустит — по 1 1/2»;
- •«Как многие источники торговли отняты у русских рутинных купцов усовершенствованиями. Пароходы убили коноводки и расшивы. Кто-то мне рассказывал, что какие-то ремни в крестьянской сбруе делаются за границей из нашей кожи.
- •«Какое-нибудь страшное злодейство, какое иногда делают мужики почти необдуманно, без плана и тотчас попадаются. „Да как же вы прежде не подумали, что попадетесь, что скрыть нельзя будет“. — „Да так, Игнаха сказал: пойдём, ограбим кабак у Шестерина“. Можно. Всего их двое — он да жена. <...> „Я лошадь запрягу, говорит, вы добро-то и вынесете“. — „Да что ж вы думали делать: ну ведь цаловальник и его жена люди живые, не дадут тоже вам своего добра так. <...> Что ж вы убить, что ли, их решились?“ — „Коли убить — об этом и речи не было <…>, да знай я, что кровь прольётся, да я первый…“»
Первый эпизод — со смертью купца — не вполне понятен. Но очевидно, что счастливый человек не стал бы думать о богатстве, лёжа на смертном одре. Возможно, это была история купца, который «сломался», пробиваясь с самых низов, как это — с большой долей вероятности — делали Кабаниха и Дикой?
Второй эпизод говорит сам за себя: рывок технического прогресса привёл к тому, что купеческий бизнес стал более рискованным. Некие «усовершенствования», затопившие рынок, лишили купцов возможности сбывать привычный товар. Теперь надо приспосабливаться, перестраиваться, а всем ли это под силу? Ну а в третьем эпизоде рассказывается история купца, который держал кабак — и которого случайно не то убили, не то покалечили его же покупатели. Вышло, что и среди купцов счастливых маловато.
Чиновник
Закрыв вопрос с купцами, мужики должны были встретить чиновника, который наводит порядок в отдельно взятом уезде. Судя по черновику, этот человек собирал подати (то есть налоги), а ещё распутывал незамысловатые преступления. В общем, он был кем-то вроде участкового.
Такой человек в Российской империи получал прилично: до 800 рублей в год. То есть, переводя на наши деньги, около 65 000 в месяц. (Акакий Акакиевич из «Шинели», просиживая штаны в канцелярии, зарабатывал 300 рублей в год.) Однако высокая, по тогдашним меркам, зарплата не искупала ужасных зрелищ, с которыми такой специалист постоянно сталкивался. Вот конспект пламенной речи, которую он должен был произнести перед мужиками:
«Прежде думал: исполняю долг, закон — и спал спокойно. А тут не стало спаться. Пуще всего подати, подати да мужицкие ваши преступления. Как позовёт тебя губернатор да даст приказ во что бы ни стало к такому-то… очистить… Ну и едешь во всё свое царство, в уезд, словно в воду опущенный, — знаешь, что везёшь туда горе, слёзы; и столько-то этих слёз и горя! Самому на себя странно; думаешь: ну что я нос-то опустил в самом деле? Ведь не на разбой еду? — долг исполнять. А тут тебе совесть <...> на память придет, долг долгу рознь… Зверем-то не всякий родится <...>; совсем невесело залезать в бабий сундук, где у неё праздничное платье да холст на саван, отрубать горенку, вести на продажу коровенку и видеть, как ребята за неё цепляются, как за кормилицу… ну да сами знаете… ну так вот тут устой. Дери бороды, бей в зубы! А преступления? То и знай „не виновата“, <...> а ты его под кнут, а ты его в Сибирь. <...> А и тут случалось покрывать, и вот за какую-нибудь бедную девку, что спас от плетей (родила, хотела подкинуть...)»
Совестливый коллектор — редкость во все времена. И почему он несчастен, из отрывка следует вполне прямо: его замучила совесть. Изымая из крестьянских семей нехитрое имущество, он вроде как исполняет долг перед государством. Но могли ли несчастные бедняки, которым просто не повезло (заболел кормилец, или его против закона забрали в армию, или и вовсе сослали на каторгу, как деда Савелия), сделать хоть что-нибудь, чтобы избежать ужасной участи? А как быть с девушкой, над которой, очевидно, надругались — и которая подбрасывает кому-то на крыльцо ребёнка, которого не способна прокормить? Герой «покрывает» таких страдалиц, хотя понимает, что вообще-то это превышение служебных полномочий. И если его поймают за руку, чахотки и Сибири ему тоже не миновать.
Министр и царь
Эти персонажи также должны были появиться в поэме. Но расписать, почему и их нельзя назвать счастливыми, Некрасов не успел. В черновиках сохранилось только это:
- «Прибытие в Петербург искать доступа
- К вельможному боярину,
- Министру государеву.
- Встреча с царской охотой и пребывание в облаве».
Однако мы вряд ли ошибёмся, если предположим, что министры (если это добросовестные и заботливые министры) и царь слишком заняты, чтобы думать о собственном счастье. На них лежит зашкаливающая ответственность, а ещё они практически каждый день рискуют своей жизнью. Ведь чем выше власть, тем больше людей хочет её свергнуть.
На одного только Александра II было совершено не менее шести покушений. Последнее стало для него роковым.
Какой же финал?
Вот мы и узнали, какие сцены должны были располагаться ближе к развязке. Однако каким планировался «финальный финал» и кто должен был получить звание счастливого — на этот вопрос ни один исследователь творчества Некрасова так и не ответил. Вполне возможно, что Николай Алексеевич попал в ту же ловушку, что и Гоголь, работавший над вторым томом «Мёртвых душ»: заканчивать произведение абы как не хотелось, а идеальная развязка никак не придумывалась.
Журналист и писатель Глеб Успенский говорил, что Некрасов однажды изложил ему такую версию финала: «Не найдя на Руси счастливого, странствующие мужики возвращаются к своим семи деревням: Горелову, Неелову и т.д. Деревни эти “смежны”, стоят близко друг от друга, и от каждой идет тропинка к кабаку. Вот у этого-то кабака встречают они спившегося с кругу человека, “подпоясанного лычком”, и с ним, за чарочкой, узнают, кому жить хорошо».
В таком случае вышло бы, что ни одного поистине счастливого человека мужики так и не нашли, поэтому им пришлось довольствоваться пьяницей. Но подобный финал был бы слишком издевательским, так что вполне возможно, что Некрасов рассказал это в шутку.
А что думаете вы, читатель? Если говорить не про далёкий XIX век, а хотя бы про наш, — кому на Руси жить хорошо? Может быть, вам?
Использованные источники
- В. А. Кошелев. «„Кому на Руси жить хорошо“. О великой поэме и о вечной проблеме».
- Михаил Макеев. «Н. А. Некрасов. „Кому на Руси жить хорошо“».
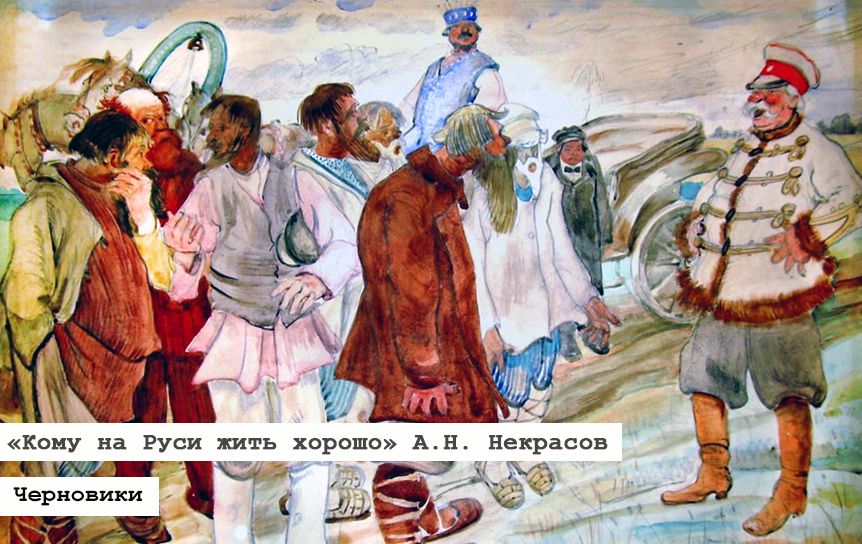

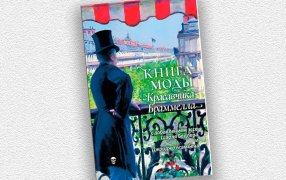



![В.С. Гроссман (12 декабря 1905, Бердичев – 14 сентября 1964, Москва) . [начало 1960-х], РГАЛИ В.С. Гроссман (12 декабря 1905, Бердичев – 14 сентября 1964, Москва) . [начало 1960-х], РГАЛИ](https://glstatic.rg.ru/crop286x180/uploads/images/2025/12/12/efesf_6a8.jpg)